Покорение голодом
М.В. Назаров, «Посев» (1983)
«Посев» (1983. № 12)
К 50-летию массового истребления крестьян
50 лет назад, в 1929–1933 годах, коммунистическая власть совершила свое наиболее крупное, подлое и сознательное преступление против нашего народа, которое на партийном языке названо “коллективизацией” и “уничтожением кулачества как класса”. Около 10 миллионов наиболее трудолюбивых крестьян с семьями (“есть корова, лошадь – вот и кулак”) были сосланы на гибель в сибирскую тайгу и на Беломорканал, еще около 7 миллионов были истреблены без ссылки, в собственных домах – искусственно организованным голодом.
Цель этого преступления, разумеется, была не экономической. Каждому ясно, что этими мерами никак нельзя было поднять производство сельскохозяйственной продукции, а можно было лишь катастрофически снизить его. Партийных вождей волновало другое: необходимо было сломить упорное сопротивление крестьян, основной массы населения страны, «социалистическим преобразованиям». Последствия этого преступления были более страшными для национального бытия России, чем татаро-монгольское нашествие: коммунисты разрушили складывавшийся веками, традиционный уклад жизни народа, питавший собой всю национальную культуру, уничтожили физически самих носителей народной культуры, хранителей национальных и религиозных традиций. Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг» так назвал это бедствие: “Это была вторая гражданская война – теперь против крестьян. Это был Великий Перелом, да только не говорят – чего перелом? Русского хребта”.

В 1983 году 50-летие искусственного голода привлекло внимание многих органов печати и организаций на Западе. В США прошли крупные демонстрации, на них выступили конгрессмены и сенаторы, были приняты резолюции. Однако в подавляющем большинстве этих акций, к сожалению, был подменен политический смысл трагедии: говорилось только о голоде на Украине и даже о “национальном геноциде украинцев русским коммунизмом”. Конечно, подобные утверждения не ново слышать из уст крайних украинских сепаратистов и из уст многих западных политиков (американский закон PL 86–90 о “народах, порабощенных русским коммунизмом”, до сих пор не изменен). Но каждый раз невольно думаешь: кому же, кроме КПСС, выгодно столь упорно навязываемое отождествление русских с коммунистами?
Трагедия Украины, пострадавшей от искусственного голода больше всего, ужасна. Но искусственный голод 1932–1933 годов был организован не по национальному, а по социальному признаку. Каре подлежали все земледельческие области страны, не выполнившие плана хлебопоставок (заведомо не выполнимого): Украина, Центрально-черноземный район, Кубань, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан. Украина наиболее пострадала от этого преступления как всегдашняя житница страны, как наиболее земледельческая территория («кулаков», т. е. зажиточных крестьян было больше), и, очевидно, нашлись более рьяные местные исполнители. В организации голода принимали участие коммунисты разного национального происхождения.
“Национальная” интерпретация голода 1930-х годов затуманивает сущность тоталитарной власти. А ведь эта власть сама позаботилась о разъяснении целей своего преступления – достаточно прочесть ряд партийных постановлений тех лет. В Советском Союзе эти документы, правда, под запретом, как под запретом и сама тема голода тех лет (робкие попытки отдельных писателей в СССР приоткрыть хотя бы часть правды – охарактеризованы в «литературном» постановлении ЦК КПСС 1982 года как “серьезные отступления от жизненной правды”, “отход от четких классовых позиций”).
Напомним, как развивались события тех лет.
В результате коллективизации и раскулачивания, начавшихся по решению партии в 1929–1930 гг., много земли осталось незасеянной и урожай хлеба резко упал. В 1932 году, к концу лета, лишь Московская область и Татарская АССР выполнили план хлебозаготовок, все остальные территории страны были не в состоянии этого сделать, выполнение плана во многих районах достигало лишь 25 %. Партия решила «принимать меры». Прежде всего – и у единоличников, и у колхозов отобрали весь хлеб, не оставив даже посевного фонда. Но этого показалось мало. В 1932 году была принята цепь законодательных постановлений, садистская логика развития которых всегда будет потрясать исследователей тоталитаризма.
7 августа 1932 года принимается “закон о колосках”: хищение колхозного имущества, в том числе сбор колосков на уже убранных полях, наказывается 10 годами заключения без права на амнистию. (Основная цель этого закона – уморить ограбленных крестьян голодом – приоткрывается из следующего сравнения: за хищение оружия с армейских складов в те же годы предусматривалось наказание… не ниже 3 лет). Колоски собирали тайно, ночью, но сытые оперотряды отрабатывали свой хлеб – и потек в лагеря поток десятилетников, в том числе крестьянских детей, арестованных за колоски.
23 сентября 1932 года Совнарком и ЦК ВКПб опубликовал новое постановление:
“Ряд местных организаций обращается в СНК и ЦК ВКПб за семенной ссудой для совхозов и колхозов… СНК и ЦК ВКПб постановляет: отклонить все предложения о выдаче семенной ссуды. Предупредить, что в текущем году ни совхозам, ни колхозам семенная ссуда выдаваться не будет ни для озимого, ни для ярового сева”.
То есть, партия сознательно шла на прекращение сева и на отсутствие урожая в следующем, 1933 году.
3 декабря 1932 года во всех газетах было опубликовано следующее постановление Совнаркома и ЦК ВКПб за подписью Молотова и Сталина, которое заканчивалось словами:
“Предупредить колхозы, колхозников и единоличников, что в областях, краях и республиках, не выполнивших годового плана хлебозаготовок и не обезпечивших себя семенами для ярового сева, колхозная торговля хлебом допущена не будет, а также предупредить их о том, что торговля хлебом в этих областях, краях и республиках будет преследоваться как спекуляция”.
С этого момента и торговля хлебом наказывалась заключением на 10 лет. На границах областей и городов были установлены контрольно-пропускные пункты, которые обыскивали едущих и конфисковывали хлеб. В деревнях была прекращена продажа всех продовольственных и потребительских товаров в кооперативных и государственных магазинах. Следует отметить, что внутри села всегда существовала значительная по обороту внутренняя торговля продовольствием, ибо не все занимались и земледелием, и животноводством одновременно. Теперь и эта торговля была приравнена к преступлению. Где должны были миллионы крестьян приобретать те продукты, которые они сами не производили – этого партия не сообщила. Крестьяне стали бросать хозяйство и бежать в города. Но юридическая фантазия и тоталитарный гений Сталина работали дальше.
27 декабря 1932 года решением ЦИК СССР была введена единая паспортная система, прикрепившая безпаспортных крестьян к месту жительства в деревне и к колхозам. Это было возрождением средневековой крепостной системы, но без Юрьева дня [и с богоборческим гнетом. – Прим. 2007]. Обреченные территории были оцеплены заградительными военными частями, ходили вооруженные патрули, проверялись документы на дорогах и на вокзалах. Кто не имел паспорта или письменного разрешения на выезд из села – тех возвращали назад. Если они еще были способны на то физически. Ежедневно на улицах подбирались трупы и сваливались кучами в ямах на кладбищах, где они засыпались известью.
В январе 1933 года выходит новая директива ЦК ВКПб – применять закон от 7 августа («семь восьмых», как его прозвали) и к случаям использования фуража “не по назначению”. То есть – 10 лет лагеря за употребление в пищу кормовых культур – овса, свеклы и т. п.
Весной 1933 года по всем областям рассылается секретная директива украинского ОГПУ:
“Сов. секретно. Всем начоблотделов ОГПУ и облпрокурорам, копия — райотделам ОГПУ и райпрокурорам. Все дела по обвинению в людоедстве немедленно изъять из судов и из ведения Наркомюста и передать для закрытого рассмотрения коллегии ОГПУ”.
Эта директива свидетельствует о том, что руководство знало о происходящем. Знало и продолжало чудовищное преступление. О сознательном уничтожении крестьян говорят и цифры экспорта хлеба за границу в те годы: в 1928 г. – 1 млн. центнеров, в 1929 г. – 13 млн. центнеров, в 1930 г. – 48,3 млн. центнеров, в 1931 г. (голод уже начался!) следует дальнейшее увеличение экспорта – 51,8 млн. центнеров, в 1932 г. подчистили, все, что смогли, – 18,1 млн. центнеров… Кроме хлеба на экспорт шли и другие продукты, было много их и на государственных складах в голодающих областях.
Когда слухи о голоде проникли за границу международные организации предложили советскому правительству свою помощь, но совнарком Литвинов заявил, что слухи о голоде в СССР – “фальшивка и контрреволюционная пропаганда”. В СССР были приглашены несколько видных западных писателей и политических деятелей, которым показали “потемкинские деревни”: счастливую и сытную жизнь трудящихся при социализме. И “выдумки буржуазной прессы” были опровергнуты. (Напомним, что во время прежнего голода – в Поволжье в 1921–1923 годах – много миллионов людей было спасено именно благодаря помощи “буржуазных” стран. Член Политбюро ВКПб Каменев писал тогда: “Никогда народы Советского Союза не забудут безкорыстную поддержку Соединенных Штатов Америки”…).
Ниже мы приведем несколько свидетельств о том, что происходило в обреченных на смерть областях. Но прежде скажем несколько слов о результатах голода.
После завершения “сплошной коллективизации”, в 1935 году, Сталин произнес слова, которые остались в памяти нашего народа:
“Жить стало лучше, веселее, а это ведет к тому, что население стало размножаться гораздо быстрее, чем в старое время. Смертность стала меньше, рождаемость больше и чистого приросту получается несравненно больше”.
Проведенная перепись населения 1937 года показала, однако, такую страшную картину потерь от “коллективизации” и голода, что была засекречена и объявлена “вредительской”, а ее руководители расстреляны. Были закрыты и журналы «Вестник статистики» и «Статистическое обозрение», в которых раньше публиковались данные о смертности и рождаемости. Перепись 1939 года уже была проведена так, как нужно было Сталину, чтобы подтвердить “веселую” жизнь.
Ломка крестьянского хребта достигла цели, поставленной партией. Коммунистам не так уж нужны были колхозы, им было нужно, чтобы сломленный крестьянин униженно пришел к партии за куском хлеба. Так возникла система нещадной эксплуатации крестьянства, когда его заставили почти безплатно работать в колхозе – на партию, а в оставшееся время, чтобы прожить и прокормить семью – на себя, на приусадебном участке, да еще платить с него налоги.
Эта система в сути своей не изменилась по сей день (механика сегодняшней эксплуатации крестьянства талантливо показана в публицистической работе самиздатcкого автора Льва Тимофеева «Технология черного рынка или крестьянское искусство голодать», см. “Грани” № 120). И когда мы сегодня говорим о неэффективности колхозной системы, о том, что в результате страна с самыми большими в міре посевными площадями не может себя прокормить и вынуждена все больше покупать продукты за границей, – то нужно вспомнить, как все начиналось. Тогда станет ясно, что именно так все и было задумано: колхозы не ради эффективного производства продукции, а ради осуществления политического контроля над населением. Вот в чем смысл и колхозной системы, и огосударствленной директивной экономики, и коммунистической системы вообще.
М. Назаров
(с подписью в ежеквартальном «Посеве» IV-1983)
Опубликовано без подписи в ежемесячном журнале «Посев» (Франкфурт-на-Майне. 1983. № 12. С. 43-45)
ПРИЛОЖЕНИЯ–СВИДЕТЕЛЬСТВА
Голод на Волге и на Урале
Отрывок из записей И.С. Башкирова (1900–1980; его биографию см. в „Посеве» № 7, 1980 г.), который, будучи научным сотрудником биостанции в Казани, весной 1933 года совершил служебную поездку по голодающим областям:
Начало 1933 года. В большом университетском городе, где я жил, с питанием было туго. Я, например, получал по карточке 400 граммов хлеба в день, на жену и сынишку давали по 200 граммов. Долгие часы приходилось выстаивать в очередях за куском хлеба – дневным пайком семьи. Бывало и так, что хлеб не привозили в “мой” распределитель – понурые люди, втихомолку ругаясь, а иные и плача, шли в холодные дома, где их ждали голодные дети. Кроме хлеба, по карточкам почти никогда ничего не выдавалось.
В начале той весны мне пришлось, по своей работе, отправиться в длинную поездку. Начал с Жигулей; затем Самара-Оренбург и Уральск, с объездом ряда районов Чкаловской и Западно-Казахстанской областей; Пенза и прилегающие к ней районы; наконец, Мордовия и современная Ульяновская область. И всюду, кроме Мордовии, в этих местах царил голод.
В Жигулях, помню, в двух поселках, Бахиловой Поляне и Старо-Казачьем, видел я опухших, с трудом передвигавшихся людей; большинство же лежало у хат, подставляя солнцу толстые, как колоды, ноги и ожидая, когда способные еще двигаться нарвут молодой, еще крошечной совсем травки и сварят из нее густую похлебку. Эта похлебка не только создавала кратковременную сытость, но и вызывала жестокий понос, от которого люди гибли не меньше, чем от истощения.
Полотно железной дороги к востоку от Оренбурга: бредут на запад с узелками казахи и русские; многие сидят и лежат на сырой земле: остатки сил растрачены и не каждый из них сможет еще раз подняться, чтобы сделать десяток-другой шагов в отчаянном и призрачном “бегстве” от смерти, а затем снова свалиться на землю… Трупы лежат изредка, поодиночке и группками.
Трупы лежат не только в степи: в Оренбурге и в Пензе – прямо на вокзалах, на площадях около них, на прилегающих улицах – всюду трупы. Каждое утро специальные подводы объезжают улицы, и люди в грязных халатах баграми сваливают мертвых на подводы и везут на окраину, где у кладбищенских стен вырыты огромные открытые ямы; сброшенные в ямы свежие трупы присыпаются негашеной известью.
Всегда мне приходилось вести обширную переписку с многими странами, в научных и иных целях. Хотелось кричать ругательства на весь белый свет, когда какой-нибудь француз, чилиец или японец некоторую (иногда и немалую) часть своего письма посвящал рассуждениям по поводу “неслыханного, грандиозного эксперимента” – коллективизации и индустриализации СССР. Но откуда им тогда было знать правду о положении в нашей стране? Ведь лишь советская пресса была источником их информации. А ни в одной советской газете, ни в одном журнале ни слова нельзя было найти о том, что умирают медленной голодной смертью миллионы людей. Думалось: у наших за границей много газет и журналов, они знают правду, они расскажут правду міру. Но вот пишет друг из Канады (он в 1925 году ушел через маньчжурскую границу и техника переписки была обусловлена) – и видно, что наши тоже не знают ничего! Они узнали, конечно, но с большим опозданием: эмигрантская печать затрубила о голоде лишь весной 1933 года, когда и немецкая и другая иностранная пресса получила соответствующие материалы, когда трагедия уже кончалась…
Голод на Кубани
Отрывки из записей доктора А. Р. Трушновича, работавшего во время “раскулачивания” и начала голода в районной больнице в станице Приморско-Ахтарской (ныне г. Ахтарск):
На Северном Кавказе голод начался в конце 1932 года, внезапно, неожиданно, хотя сами власти до того говорили, что хлеб есть. Народ заметался, но бежать было уже некуда. Люди начали умирать. Голод на Кубани, я думаю, был сильнее, чем на Украине.
Станица Полтавская, 40 тысяч жителей, не могла выполнить плана хлебозаготовок. В это время на Кубань приехал сам Каганович. Он приказал выселить всех жителей. Станицу оцепили и не оставили в ней ни одного человека. Тамошнюю больницу эвакуировали в другой район, вместе с врачами, а жителей станицы сослали: мужчин на Север, на Беломорканал и лесоразработки, а семьи – в ставропольские степи или на Урал…
Мы ехали на подводе.
– Вы раньше бывали в этой станице? – спросил возница.
– Только проходил пешком, во время Гражданской.
– Все равно. Людей ведь там видали? Посмотрите теперь…
Главная улица показалась издалека непривычно зеленой. Я долго не мог понять, почему. Возница объяснил: бурьяном заросла… Потом мы проехали еще через одну станицу, небольшую, в которой оставалось только пять жилых домов.
В районной станице Приморско-Ахтарской из 12 тысяч жителей оставалось только 7500. Здесь смертность была немного меньше, чем в остальных, потому что можно было доставать рыбу и отбросы с рыбзавода (много, правда, было отравлений гнилой рыбой).
Мы шли со знакомым врачом в больницу. Около больницы лежало несколько десятков опухших от голода крестьян с детьми. “Доктор, примите нас, доктор, примите нас”, – слабыми голосами твердили обреченные. Служащие больницы сами ходили, как тени. В некоторых районах их сняли со снабжения, в других снизили паек до 200 граммов вещества, напоминавшего хлеб. Больным также выдавалось 200 граммов такого хлеба в день, суп с капустой и чай без сахара, и эта пища притягивала к себе, толпы людей стремились попасть в больницу и в ожидании лежали во дворе.
Больница была переполнена. В коридорах люди лежали рядами, все похожие друг на друга, опухшие, без движения, серо-землистого цвета. По утрам к больнице подъезжала дежурная подвода и забирала мертвых – освобождались места для ждущих. Потом подвода объезжала всю станицу. Весною смертность и истощенность достигли таких размеров, что люди уже не были в состоянии хоронить своих близких. Дежурные колхозные подводы собирали мертвых по домам. Этих сборщиков прозвали “бригадами смерти”.
Врачи ходили по домам проверять наличие мертвых. Бывало, что вся семья вымирала и никто об этом не знал, пока из дома не доносился трупный запах. “Бригады смерти” сваливали с подвод накиданные, как бревна, трупы сразу за околицей села, в братские могилы. Сами подводчики держались на ногах не очень твердо и могилы рыли неглубокие. А ночью подкрадывались люди и отрезали от тел куски. Подавленный крестом и культурой, людоед в человеке вырывался из глубины веков на свет Божий и, с безумными и безчувственными глазами, вгрызался в тело брата своего, как Уголино – в 16-й песне Дантова «Ада» – в тела своих сыновей.
Я не знал села, где не было бы людоедства. Детей боялись выпускать на улицу: их подстерегали из-за заборов и в сенях обезумевшие люди. Как член врачебной комиссии я присутствовал при обысках у людоедов, во дворе которых были обнаружены трупы и засоленные куски человеческого мяса.
В ноябре 1933 года я встретился с высоким чином милиции, бывшим своим пациентом. Он рассказывал о расследовании таких дел о людоедстве:
– Ты знаешь станицу Брюховецкую? Д-их не помнишь? Нет? Здоровенная баба, молодая, лет тридцати. Мы нашли у нее в сарае три детских трупа с уже обрезанным мясом, арестовали ее и привезли в район. Во время ареста она лишь молча пожала плечами и пошла с нами. На другой день я взял ее на допрос. Заходит и стоит. “Садись”, – говорю ей. Садится. Сидит и молчит. Готовлю бумагу для допроса и смотрю на нее – крепкая, красивая баба, и как-то жалко стало: до чего народ дошел! А потом, как посмотрел на ее губы, то, понимаешь, затошнило меня, аж рвать захотелось. Эти губы она, значит, после детских котлет облизывала. Я посмотрел в окно и как-то переборол себя. Начинаю допрос, а она, сволочь, молчит. Только меня все рассматривает. Медленно глазами обводит, а глаза блестящие какие-то. А потом встает, подходит и берет меня за плечо, щупает. У меня мороз по спине, кожа на голове съежилась до боли. А она говорит: “Толстый ты, дядя, много бы из тебя котлет вышло…” Я как сорвался, да в другую комнату… Уже не мог ее больше допрашивать. А ночью как она мне приснится, так начинаю стонать во сне…
Врачи получили указания не загружать больниц голодными. Строго запрещалось вообще в диагнозах употреблять слово «голод». Мы были обязаны обходить это слово названиями других болезней, имеющих сходную с голодом симптоматологию…
Смерть в первую очередь косила стариков и детей. Мне показывали дом, где три старика из разных дворов, оставшихся пустыми после бегства семей, легли рядом на подстилку из тряпья и соломы – чтобы больше не вставать. Потом умирали мужчины. Женщины умирали последними.
Дети умирают от голода как-то особенно. Сначала они плачут. Потом затихают и быстро стареют лицом: на нем как бы пробегают годы предназначенной им жизни, сжатые в часы и дни. Их глаза смотрят на мір покорно, как глаза старика, постигшего всю правду, вернее – всю неправду жизни. Ужасы войны – ничто перед выражением глаз умирающего от голода ребенка. Проходишь мимо, а глаза лежащих у заборов детей пронизывают тебя насквозь, полные тихого удивления: ходит человек, и не умирает, значит, он один из тех, о которых мать и отец говорили, что они виновны в нашей смерти…
Мужчины и женщины, которых природа одарила такой силой, что горы бы им двигать, бродили по деревне и по полю, рвали траву, ловили кошек и собак, ели лебеду. Собак совсем не стало. Начальник ГПУ запирал свою собаку и водил с собой на цепочке…
У пристани в Приморско-Ахтарской стояли два иностранных парохода[i]. По сходням ходили грузчики: на пароходы грузили зерно, отнятое у умирающего народа. Недалеко, шагах в трехстах, сидели крестьяне с семьями, больше ста человек. Многие уже не могли двигаться, они ждали смерти. Другие – истощенные, отечные, двигались с трудом. И мы от всей души желали, чтобы хлеб, отнятый у русского народа, который иностранцы ели за границей, превратился в тяжелый камень…
«Бригады смерти» часто не справлялись с громадным количеством трупов. Были дни, когда им приходилось вывозить и хоронить по 60–70 трупов. Трупы теряли на улице, но никто на это не обращал внимания. Целые села и хутора вымирали и зарастали бурьяном. Школы пустовали. Дети, когда еще могли до них добираться, – плакали во время уроков от голода. Были случаи самоубийства учителей – они не могли перенести этого кошмара…
Чтобы описать все виданное и пережитое, пришлось бы заполнить много книг. Видала Россия много на своем веку, но такого голода и таких кошмаров, сопровождавших его, еще никогда. Подлинных цифр жертв никто не знает, кроме нескольких человек. А в какой статистике отражены последствия голода? Кто сосчитает преждевременные смерти тех, кто выжил, но подорвал здоровье? Кто скажет, во сколько раз увеличилось число туберкулезных? Кто определит, насколько понизился рост народонаселения?
+ + +
А вот как питались во время голода партаппаратчики. Меню одного из правительственных санаториев в Крыму: “Нормальный стол, обильный и вкусный – из всего, чем только богата Россия. В 8 утра завтрак: яйца, ветчина, сыр, чай, какао, молоко. В 11 часов простокваша. Затем обед из четырех блюд: суп, рыбное, мясное, сладкое и фрукты. В промежутке чай с пирожным. Вечером ужин — из двух блюд”. (Из книги бывшего советского дипломата С. Дмитриевского «Советские портреты», Берлин, 1932 г.).
Вальтер Кривицкий, советский разведчик, оставшийся на Западе, так описывал настроения советских партаппаратчиков во время голода, отдыхавших в бывшем имении князей Барятинских под Курском: “Мы идем трудным путем к социализму. Многие падут на этом пути. Мы должны хорошо питаться и отдыхать после работы, пользуясь в течение нескольких недель в году комфортом, еще недоступным другим, ибо мы строим Радостную Жизнь в будущем” (W. G. Krivitsky. “I was Stalin’s Agent”. London).



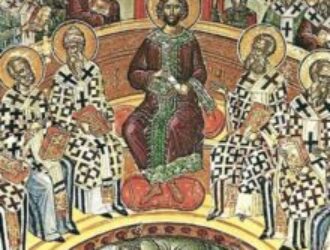
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.