
Ницше и Достоевский наши современники, хоть оба они уже в гробах. Ницше отправился в могилу немного более 10 лет назад, Достоевский упокоился тридцать лет тому назад. Они наши по времени, а также наши духовно, и идейно. Говорю, наши не потому, что считаю их нашими духовными предводителями, будто мы их ученики и последователи, но потому, что они стали представителями духовных устремлений и настроений современной эпохи. Они оба стали поэтами-мыслителями, хотя ни один из них не был поэтом или мыслителем в привычном понимании этих слов. Они стали поэтами и мыслителями, как революционеры. Они создали особый стиль, особые литературные образы с особым содержанием. Стиль, облик и содержание их поэзии представляют собой революцию в европейской и русской литературе последнего времени. Как мыслители Ницше и Достоевский не являются метафизиками но этиками, то есть определителями моральных ценностей и творцами новых моральных идеалов. У Ницше идеалом стал сверхчеловек, у Достоевского – всечеловек. Но рассмотрим поближе эти два идеала.
Ницше выводит свой идеал за рамки морали, у него становится идеалом не добрый человек, а сильный. В «Генеалогии морали» Ницше придает понятию «добрый» значение «воинственный», как это было принято в Древнем Риме. (Genealogie der Moral, c. 309, Lepizig 1906).
Привычное понятие добра для предыдущих поколений сопрягалось со стремлением скрупулезно и сознательно покоряться общепризнанным моральным законам. Сильный человек у Ницше не только не предполагает совестливости и скрупулезности в отношении общепризнанных моральных законов, а напротив, несет в себе абсолютное презрение, игнорирование вышеупомянутых. И чем сильнее это презрение в нём, тем больше он соответствует идеалу сверхчеловека. Сверх человек в себе взращивает три отрицания: отрицание морали, отрицание людей, отрицание себя.
Мораль он отрицает потому, что с помощью морали в жизни держаться на плаву многие «особи», которые так размножились, что стали «проказой земли», так что земля от них смердит. Мораль диктует сверхчеловеку защищать тех многих немощных, которые не имеют собственных сил оборонятся и защищать себя. То есть мораль ограничивает личную силу и гасит «волю к силе». Мораль есть уравнение и уступчивость. Мораль уравнивает силу и безсилие. Мораль требует от сильного уступки, самоограничения и самопожертвования ради пользы немощного. А это всё идёт вопреки «воле к силе» и мешает существовать и развиваться сильному человеку, сверхчеловеку. Одним словом сверхчеловек против морали, так как мораль против сверхчеловека, и сверхчеловек отрицает мораль, потому что мораль отрицает сверхчеловека.
Сверхчеловек отрицает и людей. Людей надо покорить и попрать, поскольку они не являются целью, но только средством жизни на земле. Они есть средство, то есть мост, по которому можно дойти до идеала сверхчеловека. Люди многочисленны и представляют собой некую силу, чьё существование зиждется на гарантии морали. Ту многочисленность следует покорить и попрать, поскольку та многочисленность не есть некая величина, которая содержит в себе некую ценность. Для него величина, имеющая ценность заключается в одном человеке, в мощной силовой единице. Великим Ницше считает того человека, который по отношению к другим людям проявляет силу, а не любовь. Велик тот, кто отрицает всех людей ниже и около себя.
Сверхчеловек отрицает в итоге и самого себя. Заратустра желает каждый день себя подавлять, чтобы превосходить самого себя, то есть отрицает самого себя, чтобы возвыситься над самим собой. Сверхчеловек особо безпощадно отрицает себя, когда желает уничтожить в себе человека, если примечает в себе «слабость», влечение к людям, любовь или жалость к ним, желание человеческого общения.
Ницше отрицает основную общественную мораль любви и правды, как причиняющую вред сильному человеку, как навязанную немощными людьми. Нынешняя европейская мораль не всегда господствовала в мире. Нынешняя мораль – это мораль «рабская», она возобладала после того, как была унижена и попрана иная мораль, «господская». «Господская» мораль существовала в старое время среди «избранных рас», к которым Ницше причисляет миры Гомеровской поэзии, германских Небелунгов, скандинавских викингов и Древний Рим. К Древнему Риму Ницше относится с особым почтением, и в нём избранному классу была присуща душевность. Основным тоном души избранной расы стала идея, выраженная в понятии «blonde Bestie», то есть «белый зверь», или рыжая бестия, вечно голодная, жаждущая добычи и победы. Ницше утверждает, что в древности избранные рас жили полнокровно и свободно, в согласии с природным инстинктами. Жизнь избранных рас была гораздо ярче, чем у некультурных рас. Ницше говорит о культуре природных инстинктов, которая выражала дух избранной расы, который, по его мнению не идёт в сравнение с духом «рабской морали».
Великую и необоримую «волю к силе» имели древние римляне, волю к борьбе и победе, волю к покорению слабых и господству над слабыми. Инстинкт господства над другими народами в ходе целой древнеримской истории оставался неизменным. Они рождались господами и в течение истории господами оставались. Сопротивление «господской морали» родилось в одной из римских провинций – в Иудее, и выразилось в «рабской морали». Рабская мораль произошла от евреев, звучала в Ветхом Завете еще до Рождества Христова. Это мораль множества маленьких людей, мораль милосердия, уступок, самоограничения, истощения собственной силы. Итак, в Риме жила «господская раса», а в Иудее – «рабская раса». От Евреев произошло «восстание рабов». Отсюда Рим и Иудея представляют собой две противоположности. Дух римский и дух иудейский – два совершенно противоположных духа. Борьба между этими духами или, скажем, борьба между Римом и Иудеей – и есть всемирная история по сей день. Господа вели борьбу во имя своего природного права, то есть во имя своей силы; рабы вели борьбу во имя милосердия и во имя своей относительной, неземной и сверхъестественной правды. Рабы победили господ, Иудея ликовала над Римом. Последняя и решительная победа рабов над господами пришла со Христом. Христос разжёг и вдохновил восстание рабов, подав ему новую пищу. Христова Церковь имела одну единственную цель: уничтожение господской морали в мире. Она триумфально продвигалась к своей цели, хотя римляне и оказывали в начале жестокое сопротивление. По Ницше, это была борьба избранных людей с народом или с рабами, то есть со стадом. Маленькие и немощные люди организовались против великих и сильных. Своим числом и своим фанатизмом победили первые. На место Рима имперского пришел Рим плебейский; на место меча, символизировавшего всю мораль, пришла маслиновая ветвь. Поражение господской морали быстро перестало быть несчастьем самих римлян, поражение господской морали распространилось быстро по Европе среди арийских народов, живущих в лесах по берегам Рейна и Дуная, стали смирять в себе мораль рыжей бестии. Целая Европа, а за ней и весь мир преклонился перед Крестом и таким образом все вступили в противоречие с господской моралью.
Так завершилась самая острая борьба в мировой истории. Народ победил своих господ в борьбе за превосходство одной морали над другой, морали рабской над моралью господской. Также понятие о добре и зле изменилось во всем культурном мире. Понятие «добрый» теперь не имеет значение храбрый и воинственный, как это было в начале, но приобрело значение послушного, миролюбивого и кроткого. Следовательно само понятие «морали» прежде несло в себе силу, теперь несет слабость. Человек, который прежде был величественным кровожадным диким звере, теперь стал ручным обычным домашним животным. Льва укротили и превратили в ягнёнка. Совершенство мстительности превратилось в свою противоположность, в совершенство незлобия. Человек «червь», который ползает, который прощает, который не мстит, который жертвует собой ради другого, который воздерживается, терпит, поставлен теперь в качестве „Ziel und Spitze», то есть, в качестве цели к совершенству, такой человек стал сегодня смыслом истории. Нынешняя жизнь человечества и вся современная культура подчинены цели осуществить такой смысл истории. Целая современная европейская культура устремлена к тому, чтобы сделать человека лучше. И, без сомнения, человек становится лучше по утверждению Ницше. Только лучше в современном понимании европейско-культурного значения: «утончённее», «добродушнее», «умнее», «удобнее», «впечатлительнее», «равнодушнее», «более китайским», «более христианским». Ницше приходит в отчаяние от того, что видит, потому, что человек становится всё лучше и лучше в современном понимании. В своём отчаянии он, подобно фурии, нападает на тех, кто поддерживает и одобряет подобный ход событий вместе с плебейской рабской моралью, Особенно он нападает на Христианскую Церковь, как на организацию рабской морали прежде всего.
Он нападает на английских философов и моралистов, которые своими системами оправдали плебейство в истории и в морали. Особенно подверглись нападкам со стороны Ницше Беркли и Спенсер, ведь они стали главными адвокатами ненавистного для Ницше плебейства. Ницше нападает на современные демократию и социализм подобно монстру, хоть они и вошли в противоречие с Христианской Церковью, но они идут еще дальше в уничтожении господской морали посредством плебейства, что ведёт к примитивизации мирового устройства. Католическая церковь, по его мнению, имела папу Борксия, который попрал целую христианскую мораль, а у демократии таких не было. Демократия по своей сути означает протест и восстание против господской морали — восстание рабов. Первое восстание рабов произошло в Иудее, в старое время, второе восстание случилось во Франции во время революции. «Никогда прежде на земле не происходило более торжественного и воодушевленного восстания» со времён французской революции, когда была разорена последняя политическая исключительность Европы. И среди того торжества и воодушевления произошло нечто неожиданное и невероятное. („das Ungeheuerste un das Unernjartetste»). Античный идеал явил себя миру во всем блеске. Это личность Наполеона, «этот синтез нечеловека и сверхчеловека. Ницше только на нём останавливает свой внимательный взор без отвращения, как на единственно достойном человеке в новейшей истории. Наполеон показал себя хищной птицей среди ягнят. А Ницше является сторонником именно хищных натур, выступая против ягнят. Он считает, что не стоит раздражаться гневом ягнят, вызванного хищниками, и не следует придавать значения тому, что хищники расхищают ягнят. В заключении своих размышлений Ницше утверждает, что нельзя от хищников требовать иных свойств, также как и от жертв. Каждый должен оставаться при своём. Что делать, если хищным птицам нравиться вкус нежной ягнятины? То есть от сильных нельзя требовать немощи, как и от немощных силы.
Нынешний человек на земле есть немощь, а его мораль есть лишь отражение немощи. «Мы устали от человека», — восклицает Ницше в своей «Генеалогии морали», а в своём более позднем произведении о Заратустре пытается создать новый тип, некий особенный организм, возвышающийся над человеком и над моралью.
Но все-таки будет ошибкой утверждать, что Наполеон был единственным человеком, достойным внимания Ницше. Без отвращения и с достойным удивлением Ницше взирал ещё на одного человека, олицетворяющего новую историю – на Достоевского. Ницше сам признавал, что он по сравнению с Достоевским слишком ничтожен. В письме Ипполиту Тену Ницше изрекает свой строгий суд о Поле-Буржуа, говоря, что дух Достоевского не даёт покоя этому парижскому романисту. В письме Жоржу Брандесо творец сверхчеловека так высказывается от Достоевском: «Я абсолютно верю Вашим словам о Достоевском; я его с другой стороны ценю как драгоценный психологический материал, какой только мне известен – ему я особо благодарен, хоть он и является противником моих низких инстинктов». (Nietzsches Briefe, Insel – Verlag Leipzig, 1911).
Достоевский, тот самый, который подписывал своё письмо Царю Александру II : «бывший государственный преступник», — который родился в больнице для бедных, которого выводили на эшафот, который носил оковы, который голодал вместе с семьей, который был болен эпилепсией, тот, которому аплодировала Москва, Петроград провожал в последний путь – был величайшим апостолом той морали, которую Ницше называет «рабской» и творцом нового морального типа: всечеловека.
Достоевский назвал Пушкина всечеловеком, хотя такая характеристика более свойственна самому Достоевскому. Мощный гений Достоевского охватил собой большее число человеческих душ, нежели гений Пушкина. Великие люди бывают либо узки и высоки, будто обелиск, либо широки и глубоки, словно океан. Узким и высоким был Ницше, а широким и глубоким был Достоевский. Подобно русской земле широка душа Достоевского, или лучше сказать, подобно планете Земля. И сам Ницше должен был увидеть своё отражение на поверхности этого глубокого океана – иначе он бы не имел такого уважения к русскому Шекспиру как один из немецких писателей (Otto Julius Bierbaum – Dostojenjski, p.6.) называет Достоевского.
Духу Достоевского был известен Ницшеанский идеал еще до появления Заратустры. Посмотрите, как чётко Достоевский изобразил тип сверхчеловека в лице Раскольникова в романе «Преступление и наказание», который постоянно видит перед собой пример Наполеона и который живёт в уверенности, что великому человеку всё позволено, не взирая на мораль. Но Раскольников как образ Достоевского не мог до конца оставаться полноценным сверхчеловеком, каким был Наполеон, его идеал, ведь Наполеон никогда не каялся в пролитии крови человеческой, а Раскольников покаялся: оставил окровавленный топор и отправился в заточение, в Сибирь, с Евангелием в руках и с покаянием в душе. В душе Наполеоновой и Заратустровой не было раскола, в то время как Раскольников получил свою фамилию в качестве символа своей расколотой души. Его душа ни в чём не участвует полностью, но только одной частью: одной частью она в злодеянии, а другой в покаянии. Достоевскому не было дела до создания идеального сверхчеловека, но его занимало исследование реальных людей и отделение добра от зла в людях. Достоевский искал идеального в реальном, искал золото в грязи, великое в презренном. Белинский говорил по поводу молодого Достоевского, написавшего «Бедные люди»: «Честь и слава молодому поэту, чья муза любит людей на мансардах и в подвалах, и говорит тем, которые обитают в золотых палатах: взгляните, ведь и они люди, ваши братья». Бедных людей, Макария Девушкина и Вареньку, Заратустра бы растоптал в пыль, поскольку не нашёл бы в них силы и мощи, воинственных инстинктов или «рыжей бестии». Достоевский разгрёб ту грязь, которая покрывала бедных людей, чтобы открыть миру их души, снял с них всякие неприглядные покровы, отразил все их придавленные гнётом вибрации – и мир стал поражён невиданным сиянием из-под грязи. Так Достоевский подобно чудотворцу мог указать на золото там, где люди привыкли видеть грязь, и указать на грязь там, где люди привыкли видеть золото. Мир воспринимал Макария Девушкина и Вареньку, и слугу Карамазовых Смердякова грязными, — Достоевский же открыл миру очи, чтобы он увидел в той грязи золото. Или, светское общество считало лорда Биконсфилда золотым человеком, который блистал и слепил всем очи своим высоким положением, прекрасным образованием и салонными манерами, а Достоевский удивил всех однажды, объявив в своём «Дневнике», что лорд Биконсфилд является негодяем, „piccola bestia», который морочит людям голову ради своей добычи. По словам Достоевского лорду Биконсфилду забавно устраивать резню в Болгарии. Восточный вопрос легко бы решился, если бы сей негодяй не мешал своими интригами. В Москве тогда находилось множество беженцев, южных славян с Балкан. Одна девочка 8 лет постоянно падала в обморок, вспоминая, как черкесы сдирали кожу с её живого отца. «О цивилизация! О Европа!» — восклицает Достоевский. «Да будет проклята сама эта цивилизация, если она требует того, чтобы с людей сдирали кожу», — негодует он. «Разве может человек построить своё счастье на несчастье других?» — задает Достоевский вопрос. И так аргументирует: «Каково же это счастье, если построено на чужом несчастье? Извольте задуматься, вот вы сами строите здание человеческой судьбы с целью, чтобы все люди были счастливы, чтобы все жили в мире и покое. И представьте себе, что нужно для этого замучить одно человеческое существо, простого человека … не Шекспира, но какого-нибудь старика … и кроме того, его следует оклеветать, обезчестить и помучить; и на слезах обезчещенного старца построить своё здание! Стали бы вы архитектором такого здания при таких условиях?
Ницшеанский сверхчеловек только бы посмеялся над таким вопросом. Прежде всего, он никогда бы не строил дом человеческого счастья, но только своего собственного. А для здание своего личного счастья сверхчеловек готов использовать любой подходящий кирпич, пропитан ли он слезами или кровью не только одного старика, но множества человеческих творений, хоть и всего человечества. Достоевский же отвечает на заданный вопрос решительным «нет». В его очах каждое человеческое существо на земле имеет право на существование, если хоть где-то в глубине души имеется зёрнышко добра и благородства, только одно зёрнышко служит в оправдание его существования. Поэтому Достоевский и говорит: «Все мы добрые люди». Мы выглядим друг перед другом прогнившими оттого, что мы друг друга знаем очень поверхностно. «Честность и искренность нашего общества не просто не подлежат сомнению, но бросаются в глаза». Так рассуждал Достоевский о русском обществе в то время, когда другие русские писатели, начиная от Герцена и до Тургенева, считали русское общество тлеющим трупом. Он видел то, что другие видеть не могли. Его исследованию и оценке людей предшествовала любовь, а не хирургическое равнодушие. Он предварительно знал, что в душе каждого человека можно обнаружить две бездны, как и в душе Карамазова, будучи в состоянии проникнуть в чужую душу, как в свою собственную, он шёл только до меры и сравнения тех двух бездн, бездны благородства и бездны отвращения. Мы боимся людей, которые нас окружают; если бы мы приблизились к ним и узнали, то перестали бы бояться. Узнать, значит простить.
Славянофилы и западники никак не могли друг друга терпеть, как две враждебных нации. Достоевский знал и одних, и других, и понимал сколько добра находится и у одних, и у других: сколько ума, сколько возвышенных идеалов, горячего воодушевления, готовности к гуманной деятельности и к самопожертвованию! Поэтому с удивлением спрашивал: «Почему же не могут они в споре сохранять любовь?» Славянофилы и западники, между тем, не имели любви потому, что из-за экстремистских настроений имели неверную оценку ценностей России и Западной Европы. Славянофилы отрицали ценность западной культуры, полностью отвергая тем Запад и восхваляя русский народ; западники же непрестанно восхваляли Запад и неутомимо высмеивали русский народ, как некую мрачную полу варварскую массу. Московские славянофилы одевались в мужицкую одежду; западники же, подобно графу Гагарину, старому русскому дворянину, одевались по-европейски, принимали католичество, становились иезуитами. Достоевский не принимал исключительное восхваление России, так же как и неумеренное прославление Европы. Зачем требуется славянофилам прославлять русский народ, если сам русский народ себя не величает, чувствует своё не достоинство, смиряется и кается? Достоевский отмечал: «Никогда наибольший подлец в народе не говорил, что надо именно так поступать, как он поступил, наоборот, русский всегда воздыхает с сожалением о том, что есть в жизни много примеров более достойных поступков и дел. Зачем западникам прославлять Запад, если на Западе важнейшим человеком считается лорд Биконсфилд, во имя которого сдирают с живого человека кожу?» И Достоевский трудится разделить две бездны на Западе и в России, так же как он разделил две бездны в душах отдельных людей. На Западе много культуры, но мало Христианства, мало христианского, братского духа. В России есть гораздо больше Христианства, но гораздо меньше культуры. Запад велик наукой, но мал верой. Россия велика верой, но мала наукой. Западная наука привнесла в мир эгоизм, потому что произвела атеизм. Народ русский видит свою историческую задачу в служении Христу, а через Христа в служении всему человечеству. Западу важно достигнуть господства над всем миром.
Если бы Ницше мог видеть всё, что видел Достоевский, он был бы доволен. Только Ницше видел в Западной Европе то же самое, что Достоевский видел у русского народа, то есть смирение и «служение Христу».
«Науку и знание можно принимать от Запада, но веру – нельзя, ведь на Западе её нет», — говорил Достоевский. Западное Христианство совсем механизировалось и превратилось в «институт насилия», желающий господствовать, а не служить. Католицизм вместо того, чтобы поднимать людей к Богу, спустил Бога на землю. Протестантизм не имеет ничего позитивного: его смысл в протесте и отрицании. Если завтра не будет католицизма, исчезнет и протестантизм, поскольку не станет объекта для протеста. Но католицизм не исчезает, он видоизменятся, переходя в западный социализм. Социализм, тот самый атеистический католицизм, вступает в борьбу с такими же лозунгами, как и религиозный католицизм „Fraternite ou la mort» (Братство или смерть).
Социализм со своим атеизмом и эгоизмом завершит разорение Запада, начатое римским католицизмом. «На Западе воистину нет Христианства и Церкви, хотя есть ещё много христиан и они никогда не исчезнут», — говорит Достоевский. Для Достоевского вызывали уважение западные христиане, такие как Диккенс, Шиллер и Жорж Санд (хотя она сама этого не подозревала). Но они не имеют влияния на Западе, они больше известны и читаемы в России, чем на Западе. Злую судьбу поэтому предсказывает Западу Достоевский.
«Надвигается четвёртый вал, — говорит Достоевский, — он бьётся в двери, и если их не открыть, он их выломает. Тот четвёртый вал отвергает все прошлые идеалы, отбрасывает все ныне существующие законы, он не идёт на компромиссы и уступки, подпорками уже не спасти здания. Уступки только придают ему силы, ему нужно всё. Наступает то, что никто и предположить не смеет. Весь парламентаризм, всякое исповедание гражданской теории, все собранные богатства, банки, наука – всё будет безсильно, кроме, вероятно, Евреев, они выйдут из затруднений… Всё это близко, при вратах, и не усмехайтесь! … А я, что же мне радоваться?» — вопрошает пророк.
Пророк это говорил не из ненависти, но по любви к Европе. «Нам всем дорога Россия так же как и Европа, это всё Иоафетово племя, а наша идея в том, чтобы объединить все нации этого племени, и еще больше, до Сима и Хама», — говорит Достоевский. Запад – это наше второе отечество. Русский на Западе чувствует себя как дома. Европейские народы смотрят со страхом на русских. Их страх происходит из нескольких причин. Русских более 100 миллионов. «Русские знают все идеи, русские знают все западные языки. Русские знают всё, что было в прошлом с Западом и каковы его намерения. А запад ничего не знает о России. Отсюда и страх Европы перед Россией».
Достоевский упраздняет ту боязнь, Запад при своём падении может найти спасение только в России. Когда поднимется тот четвёртый вал на Западе, о котором говорит Достоевский, тогда наступит «третье восстание рабов», как сказал бы Ницше, и те волны четвёртого вала могли бы разбиться только о наши берега, ведь только тогда станет понятно насколько отличается наш национальный организм от европейского. «О, народы Запада и не знают, как они нам дороги! — восклицает Достоевский. — Когда Запад будет сломлен, тогда Славяне скажут своё «новое слово» целому миру. То «новое слово» прозвучит не только на пользу Славянам, но уже на пользу целому миру, на пользу всему роду человеческому. Оно будет иметь отношение к объединению всех народов ради всеобщей гармонии, ради окончательного братского согласия всех племён согласно Христову Евангельскому закону. Это объединение будет не политическое и не экономическое, будет единством «во Христе и братстве».
Достоевский не является проповедником экономического и политического братства, но братства, основанного на любви. «Будьте братьями, — говорит он в своей нагорной проповеди – но не из экономической выгоды, а из полноты радости жизни, из полноты любви». Когда однажды Запад станет проломлен четвёртым валом, тогда по инициативе Славян создастся единое светское братство, единое всечеловечество. Тогда весь мир станет как один человек, ведь тогда весь мир будет жить одной душой, одной любовью. И тогда каждый человек в отдельности будет представлять собой всечеловека в малом облике, поскольку каждый в своей душе будет ощущать великую всемирную всечеловеческую душу, находясь в гармонии с той великой душой. Когда это наступит, тогда легко организуется и политическое, и экономическое братство, без того первого, последнее будет всегда только ложью, замаскированной под именем истины. Сейчас только Славянин может быть всечеловеком, ведь только он знает два мира: западно-европейский и славянский; человек с Запада знает только Запад – он имеет одну душу. Славянин имеет две души: славянскую и западно-европейскую. Исходя из этого, славянская душа просторнее, по сему идеалы славянской души также просторны. Предыдущая славянская история состояла в познании Запада «в познании и извинении западных идеалов», — как говорит Достоевский. Мы познали Запад и простили ему его узкие идеалы. Самые широкие западные идеалы узки для славянской души. В Европе смотрят на Русских как на нигилистов, поскольку считают их разрушителями того, что они не строили. Это факт, от которого Достоевский не отрекается. Но он объясняет этот факт. Русские отрицают западную цивилизацию не потому, что она им не нравится, не разрушают они её как Гунны или Татары, чтобы только разрушить или из корыстолюбия, но ради чего-то, что истинно, чего мы сами не знаем», — говорит Достоевский. Те Русские, которые на Западе проявляют себя как разрушители, в России не таковы. Белинский был европейским социалистом, а в России был и остался горячим патриотом.
Русские смотрят на Европу как на прошлое, а на себя как на будущее. Иван Карамазов говорит своему брату Алексею: «Я хочу ехать в Европу, Алёша … и видишь ли, знаю, что еду всего лишь на кладбище, но на очень дорогое мне кладбище». Русский народ тёмен, порочен и грешен – это видел Достоевский лучше, нежели кто другой из великих русских. Но русский нард имеет великую силу, которой живёт. Та сила есть Христос. Христианство на Западе стало одной мрачной силой, которая мешает в жизни. Христианство в России – это живая сила, которой живёт народ. В народном Христианстве, в Православии, нет столько логики, сколько любви, человеколюбия и самопожертвования. Но разве всё живёт логикой? Нет, прежде любовью, чем логикой. «Возлюбить жизнь прежде логики» — вот философия Алексея Карамазова, которую он преподаёт своему безбожному брату Ивану. Возлюбить людей больше, чем логику — это существенное учение Православия. Ошибки сердца происходят от ошибок ума», — размышляет Достоевский. Действительно, история показала, что сердце человеческое может дойти до большего совершенства, нежели человеческий ум. Посмотрите, ведь земля пережила на себе больше примеров совершенной любви, нежели примеров совершенного ума. Совершенная любовь в том, чтобы кто-то служил своему ближнему и жизнь свою положил за другого. В служении Христу или в служении «всечеловечеству» видит русский народ свою историческую задачу — не во всемирном господстве, но в служении миру. Только служение Христу или человечеству означает страдание – отсюда страдание есть главное дело русского народа в истории человечества, страдание в устремлённости и борьбе за достижение всемирного единства и братства. Достоевский предвидит своим пророческим духом, что русские, а за ними и все Славяне будут иметь великие страдания как свою судьбу. Поэтому он указывает на «радость страданий». Это одна из главных точек в философии Достоевского. «Вот тебе мой завет, – говорит старец Зосима Алексею Карамазову, – «ищи счастье в страдании», разумеется не в безцельном страдании, но в страдании ради добра всех людей. Все мы виноваты во всём, поэтому и должны страдать все за всё. Предсмертные речи старца Зосимы гласят: «Знайте, милый мой, что каждый из нас виноват во всём … всякий перед всеми людьми и перед каждым человеком на земле».
Вот сущность учения этого несомненно самого необычного и гениального человека, которого Россия дала миру, не только самой себе, но всему миру, ведь Достоевский ещё при своей жизни стал известен всему миру. И Ницше его знал, но никогда не оппонировал ему, поскольку не мог не увидеть, что Достоевский самый мощный представитель и защитник тех, которым он, Ницше, через своего сверхчеловека объявил крестовый поход. Если бы Достоевский застал издание Ницшевого «Заратустры», он бы стал неодолимым противником его. Жаль, что Достоевский не дожил до этого. В своей критике Ницшевого Сверхчеловека он бы еще рельефнее выстроил свой идеал Всечеловека. Но кроме всего досадно, что остановилась по воле судьбы всякая полемика между двумя личностями, в которых сконцентрированы все устремления нашего времени. С тем вышла из круга нашего внимания та титаническая борьба, которую свет не видывал до селе, лучше скажем, которую свет ежедневно наблюдает, но не видит. Ведь Достоевский и Ницше представляют собой две противоположности в мире, в них олицетворены Иудея и Рим, Христианство и язычество, народ и деспот, вера и неверие, надежда и отчаяние, Христос и антихрист. Сверхчеловек представляется нам как одна высокая каменная статуя, подобно Нероновой статуе в 36 метров, которая стояла перед римским Колизеем, а Всечеловек подобен множеству маленьких бюстов; или сверхчеловек подобен огромному дереву посреди голого поля, а всечеловек подобен густому лесу с переплетёнными ветвями и корнями или хотя бы тенями. Сверхчеловек видит смысл в самом себе, а всечеловек находит свой смысл во всечеловечестве. Сверхчеловек отрекается от Бога, отрекается от морали, отрекается от общества. Всечеловек признаёт Бога, признаёт мораль, признаёт общество. Сверхчеловек огромный уникум, что-то сверх размерное; всечеловек многочисленен, состоя из множества малых уникумов. Сверхчеловек выступает против всякой организации, ведь всякая организация требует уступки от его прав. Поэтому сверхчеловек выступает и против культуры, ведь культуры не бывает без организации. И жизнь древних народов, которыми восхищается Ницше, тоже была высокоорганизованной и культурной в некоторой степени. И в основе тех первых организаций и культур лежал принцип: жертвование одной личности в пользу широкой организации: семье, племени, народу, — то есть лежал в основе один не сверхчеловечный, а всечеловеческий принцип.
С другой стороны, нынешние народы Европы, о которых он думает, что разнежены Христианством и ослаблены, всё еще живут с господской моралью по отношению друг к друг, полные желания подавлять и одерживаать победу, перегруженные военным снаряжением и боевыми планами. В своих первых трудах Ницше ещё думал, что нашёл свой идеал среди древних избранных народов. Когда же он писал «Заратустру», был уже при других мыслях. Теперь ему уже было ясно, что его задуманный идеал был невозможен в истории человечества, в народе, в обществе и культуре. Поэтому он воздвиг свой идеал на высоту и уединил. «Заратустра» самая последняя книга Ницше, где он уже не говорит об исключительности одного народа или расы, но говорит об исключительности одного человека. Руссо и Толстой хотели вернуть человека к природе, чтобы он сделался ягнёнком, христианином, а Ницше хотел вернуть человека к природе, чтобы он сделался хищником и антихристом. Руссо и Толстой не угадали пути к своей цели, а Ницше угадал. Достоевский не хотел возвращать человека назад, к примитивизму, в некультурное состояние, куда возвращали человека Руссо, Толстой и Ницше. Он верил в то, что идеал человека можно достигнуть, идя вперёд, не минуя культуры. Идти с культурой и страданием, или только страданием, потому что основы культуры лежат в страдании – вот путь ко всечеловеку Достоевского. Как бы этот идеал Всечеловека не был философски обоснован, и насколько бы казался в некоторых своих поступках несимпатичным – это всё-таки идеал, который люди, как культурная общность, могут иметь. Но если бы все люди имели такой идеал, тогда настал бы мир во всём мире, тогда бы не было борьбы между народами и людьми, не было бы борьбы внутри души человеческой. Кто знает, была бы тогда жизнь на земле? Точно так же, если бы все люди носили внутри себя идеал Ницше, они бы в безпощадной борьбе уничтожали друг друга, не стало бы людей, наступила бы мёртвая тишина в мире. Кто знает, была бы ли тогда жизнь на земле? Люди обычно идут средним путём и смешивают идеалы. Некоторым людям Ницше симпатичен, потому что поддерживает их эгоизм, но люди стыдятся до конца следовать его идеалу. Многим людям по душе Достоевский, потому что он не изолирует человека, не уединяет его – люди всегда боятся одиночества. Идеал Достоевского связывает людей в одну человеческую цепочку, в единый перстень, но опять же люди боятся до конца следовать этому идеалу. Если бы два идеала соединились в одном человеке, то он бы нарёкся «Раскольниковым». Много «Раскольниковых» в нашей жизни, но мало чётких следователей идеалов. Поэтому Сверхчеловек и Всечеловек постоянно создают раскол в человеческой душе и в обществе. Кто же хочет быть последовательным, может выбрать между Ницше и Достоевским.
И Ницше и Достоевский славянской крови, хоть Ницше стал апостолом Запада, а Достоевский апостолом Славянства. Если бы завтра Запад начал войну против России, то он воевал бы за идеал Ницше, то есть во имя своего эгоизма. Россия бы воевала на идеалах Достоевского, то есть во имя Христа, во имя всечеловеческого единения и братства. Это два больных человека: Ницше душевнобольной и Достоевский эпилептик – завладели душами всего культурного мира. Они стали символами и знамёнами для людей. Они заключают в себе всю гениальность современной Европы. Это две силы, ранее как теоретические, стали всё больше применяться на жизненной практике. Теперь это уже не обычные теоретические силы вроде Спинозы и Канта, но две живые силы, которыми живёт мир. Борьба во имя Ницше и во имя Достоевского уже началась. Но решительная битва, страшнейшая, только предстоит. Дух Ницше и дух Достоевского будет идти перед войсками. Предстоит новое восстание рабов, предвидится новая победа слабых и угнетённых. Это будет вторая великая победа Христова в истории.
Пустим же, господа, и Ницше и Достоевского, одного как пророка Запада, а другого как пророка Востока, пустим их, взирая на их решительность и гениальность – но в решительную минуту встанем на сторону Достоевского! Источник: http://rys-strategia.ru/news/2021-02-24-11395 |
Последние новости
![«У каждого своя правда»? – Нет! У каждого своя ложь – а правда одна!]() 28.05.2025
28.05.2025
![Шолохов как идеолог соцреализма]() 26.05.2025
26.05.2025
![Игорь Стрелков о планах создания «буферной зоны»]() 26.05.2025
26.05.2025
![Ложь о войне порождает «ревизионистов», «реваншистов», «отрицателей» и «неонацистов»]() 26.05.2025
26.05.2025
 28.05.2025
28.05.2025
«У каждого своя правда»? – Нет! У каждого своя ложь – а правда одна!
«У каждого своя правда»? – Нет! У каждого своя ложь – а правда одна! Генрих Дауб «Не крадите, не лгите и не...
Далее 26.05.2025
26.05.2025
Шолохов как идеолог соцреализма
Шолохов как идеолог соцреализма Дунаев М.М. Одним из крупнейших созданий в литературе XX столетия стала эпопея...
Далее 26.05.2025
26.05.2025
Игорь Стрелков о планах создания «буферной зоны»
Игорь Стрелков о планах создания «буферной зоны» По всей видимости, власти в Киеве рассчитывают на то, что через...
Далее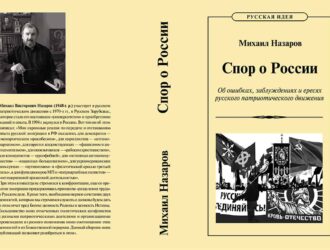 26.05.2025
26.05.2025
Ложь о войне порождает «ревизионистов», «реваншистов», «отрицателей» и «неонацистов»
Ложь о войне порождает «ревизионистов», «реваншистов», «отрицателей» и «неонацистов» М.В....
Далее
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.