Чудо сбывшейся судьбы. А.И. Солженицын. 3. Лагерник

«Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул громадные «Известия», которыми мог бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчёт процесса инженеров-вредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал — почему, он не мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что всё это — ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях — и не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили. И в тринадцать, и в четырнадцать лет, сделав уроки, Глеб не бежал на улицу, а садился читать газеты. Он знал по фамилиям наших послов в каждой стране и иностранных послов у нас. Он читал все речи на съездах. Да ведь и в школе им с четвёртого класса уже толковали элементы политэкономии, а с пятого обществоведение едва ли не каждый день, и что-то из Фейербаха. А там пошли истории партии, сменяющиеся что ни год. Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчике остро. Всего лишь девятиклассником был Глеб, когда декабрьским утром протиснулся к газетной витрине и прочёл, что убили Кирова. И вдруг почему-то, как в пронзающем свете, ему стало ясно, что убил Кирова — Сталин, и никто другой. И одиночество ознобило его: взрослые мужчины, столпленные рядом, не понимали такой простой вещи! И вот те самые старые большевики выходили на суд и необъяснимо каялись, многословно поносили себя самыми последними ругательствами и признавались в службе всем на свете иностранным разведкам. Это было так чрезмерно, так грубо, так через край — что в ухе визжало! Но со столба перекатывал актёрский голос диктора — и горожане на тротуаре сбивались доверчивыми овцами. А русские писатели, смевшие вести свою родословную от Пушкина и Толстого, удручающе-приторно хвалословили тирана. А русские композиторы, воспитанные на улице Герцена, толкаясь, совали к подножью трона свои угодливые песнопения.
Для Глеба же всю его молодость гремел немой набат! — и неисторжимо укоренялось в нём решение: узнать и понять! откопать и напомнить! И вечерами на бульвары родного города, где приличнее было бы вздыхать о девушках, Глеб ходил мечтать, как он когда-нибудь проникнет в самую Большую и самую Главную тюрьму страны — и там найдёт следы умерших и ключ к разгадке. Провинциал, он ещё не знал тогда, что тюрьма эта называется Большая Лубянка. И что если желание наше велико — оно обязательно исполнится». («В круге первом»)
Комбат Солженицын был арестован на фронте 9-го февраля 1945-го года. В переписке с близким другом Николаем Виткевичем он нелицеприятно отзывался о Сталине, которого друзья прозрачно именовала «Паханом». Впрочем, эта участь навряд ли миновала бы А.И., даже если бы эти письма чудом не привлекли внимание органов. На фронте он не упускал случая расспросить однополчан о голоде, о 37-м годе и других запретных темах, желая узнать подлинное положение дел, понять собственный народ, без чего, как казалось ему, не имел он права браться за перо. То, что приходилось слышать начинающему писателю, шло совершенно вразрез с тем идеальным представлением о советской власти, которое внушали ему с пионерских времён. Отцы-основатели, Маркс и Ленин, покуда оставались незапятнанными, но фигура Сталина уже стала оцениваться исключительно отрицательно. В связи с этим А.И. уже на фронте понял, что легальное писательство не его путь, что работать придётся подпольно, и об этом писал жене в 44-м и 45-м годах.
О том, что станет писателем, Солженицын знал ещё в раннем детстве: школьные тетради и блокноты исписывались рассказами, романами, стихами, издавался собственный импровизированный журнал, а в душе жила мечта написать роман о революции, родившаяся по прочтении Шульгина. К моменту ареста уже было написано несколько рассказов, а, главное, дневники, в которые А.И. заносил все, что доводилось ему видеть и слышать, достаточно прозрачно обозначая имена рассказчиков. Судьба этих дневников потом очень волновала Солженицына: отнесись к ним в органах с достаточным вниманием, и многие невинные люди могли бы пострадать из-за неосторожности молодого прозаика. По счастью, органы утруждать себя скрупулёзным изучением неразборчивых записей не стали.
Какой, однако же, могла быть судьба писателя в ту эпоху? Расстреляны, уничтожены, замучены в лагерях многие гении русской литературы: Гумилёв, Есенин, Мандельштам, и из нового поколения – Б. Корнилов… Покончила с собой Цветаева. Который год заживо похоронен среди сотен тысяч других зэков Варлам Шаламов. Под запретом Ахматова, Пастернак, Зощенко, Пильняк, Платонов, Замятин и многие другие ещё сущие и уже почившие. Другие встроились в официальную литературу, покорствуя власти, прославляя идолов, поставляя Божий дар на службу лжи и часто лишаясь его за это. Третьи погрузились в молчание. И в отчаянии говорил один из последних о невозможности творить истоптанными мозгами, писать изломанными руками. Избери Солженицын путь легальной литературы, мог бы и он пополнить отряд бывших писателей, ставших подписантами, лизоблюдами и клеветниками. Мог бы и он уподобиться узнаваемому персонажу из «В круге первом»: «Он сам не заметил, когда, чем обременил и приземлил птицу своего бессмертия. Может быть, взмахи её только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками. А его пьесы, его рассказы и его роман умерли у него на глазах ещё прежде, чем автор дожил до тридцати семи лет. Но почему обязательно гнаться за бессмертием? Большинство товарищей Галахова ни за каким бессмертием не гналось, считая важней своё сегодняшнее положение, при жизни. Шут с ним, с бессмертием, говорили они, не важней ли влиять на течение жизни сейчас? И они влияли. Их книги служили народу, издавались многон’ольными тиражами, фондами комплектования рассылались по всем библиотекам, ещё проводились специальные месячники проталкивания. Конечно, очень многой правды нельзя было написать. Но они утешали себя, что когда-нибудь обстоятельства изменятся, они непременно вернутся ещё раз к этим событиям, переосветят их истинно, переиздадут, исправят старые книги. (…) Начиная новую большую вещь, он вспыхивал, клялся себе и друзьям, что теперь никому не уступит, что теперь-то напишет настоящую книгу. С увлечением садился он за первые страницы. Но очень скоро замечал, что пишет не один — что перед ним всплыл и все ясней маячит в воздухе образ того, для кого он пишет, чьими глазами он невольно перечитывает каждый только что написанный абзац. И этот Тот был не Читатель, брат, друг и сверстник читатель, не критик вообще — а почему-то всегда прославленный, главный критик Ермилов». Падение всегда начинается с малого: вычищение лучших мест, выстраданных мыслей во имя публикации, привнесение нужных идей и их носителей, участие в травле вчерашних друзей по указке сверху, наконец, полное подчинение себя, своего таланта, своей души чужим целям, осквернение дара, отречение от собственных взглядов, и, в итоге, опустошение, творческое бесплодие, имитация жизни и пребывание в звании писателя, несмотря на бессилие написать что-либо, кроме казённо-плакатных памфлетов. Во время «оттепели» мог бы и он, не утруждаясь проникновением вглубь вещей, развенчать культ, прославляя Ленина, старых большевиков, партию, чем и занималось большинство пишущей братии. Сам Солженицын, рассматривая легальный вариант своей судьбы, писал:
Кто здесь был – потом рычи,
Кулаком о гроб стучи –
Разрисуют ловкачи,
Нет кому держать за хвост их –
Журналисты, окна «РОСТА»,
Жданов с платным аппаратом,
Полевой, Сурков, Горбатов,
Старший фокусник Илья…
Мог таким бы стать и я…
Надо заметить, что примерка на себя чужих судеб, даже судеб палачей НКВД – характерная черта А.И. Он не останавливается на том, чтобы просто осудить и придать анафеме по принципу «мы хорошие, мы бы никогда, а они – выродки», но пытается проникнуть в первопричину: выродки – откуда взялись? Родились такими? Да нет же, в большинстве своём, стали. Но стали – отчего? Как человек, до определённого времени развивающийся нормально, постепенно превращается в подонка и кровопийцу? И пытаясь постигнуть эту загадку, А.И. ставит себя на место такого человека, примеряя на себя возможные обстоятельства, и приходит к выводу, который отнюдь не каждый бы отважился огласить публично: «Позови Малюта нас – и мы бы не сплошали»
Но судьба сама сделала «легальный путь» невозможным для Солженицына, избавив от этого искуса. Удары судьбы часто воспринимаются людьми, как кара за что-то или же просто несправедливость. На деле эти удары очень часто служат спасительными предупреждениями, призванными сберечь человека от чего-либо худшего. Пословица гласит, что всё, что нас не убивает, делает нас мудрее и сильнее. Это утверждение во многих случаях справедливо, и сам А.И. считал свой арест и заключение благом для себя.
19-го февраля за бывшим комбатом захлопнулись ворота Лубянки, и начался его путь по дантовым кругам. Дантов ад открывался бессмертным заветом: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Справедливость его новоиспечённый заключённый ощутил интуитивно и, согласно ему, сформулировал единственно спасительную модель поведения: «Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную тёплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречён на гибель – сейчас или несколько позже, но позже будет даже тяжелей, лучше раньше. Имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня – и я для них умер. Тело моё с сегодняшнего дня – бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны. И перед таким арестантом – дрогнет следствие!»
Солженицыну удалось найти верную линию поведения на допросах. Свою вину он вначале отрицал, но затем признал. Главным же было не допустить, чтобы к делу этому «пристегнули» других людей: жену, друзей, бывших в курсе его мыслей и намерений, однополчан, чьи рассказы он записывал. И это ему удалось. Никого из них не только не был арестован, но даже не подвергся допросу. Виткевичу, разумеется, избежать ареста не удалось. Но это была не вина А.И. Сам Виткевич впоследствии на вопрос, посадили бы его вне зависимости от показаний Солженицына, не задумываясь, ответил утвердительно. Несмотря на то, что оба друга одинаково не стеснялись в выражениях относительно «отца всех народов», лишь А.И. был обвинён по статье 58-11 в создании молодёжной антисоветской группы, и ему одному полагалась по отбытии срока вечная ссылка.
7-го июля, «тройка» ОСО НКВД СССР вынесла вердикт: «За совершение преступлений, предусмотренных ст. Ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР Особое совещание при НКВД СССР заочно осудило Солженицына Александра Исаевича к 8 (восьми) годам исправительно-трудовых лагерей».
Четырехмесячное пребывание на Лубянке многое открыло Солженицыну. Перед его взором проходили люди, вычеркнутые из жизни, люди, в чьих судьбах отразилась история последних страшных десятилетий России: здесь были бывшие революционеры, помнившие ещё тюрьмы и ссылки царские и имеющие возможность сравнить их с теперешними, были белоэмигранты, белые офицеры, уже старики, выловленные в восточной Европе по освобождению её от немцев и теперь осуждённые окончить свой век в советских лагерях и застенках. Здесь впервые услышал А.И. утверждения, что Ленин ничем не лучше Сталина, что любимый им Горький – дутая и ничтожная личность. Идейный марксист в Солженицыне не принимал этого, но всё же какие-то зёрна западали в душу, чтобы прорасти позже. Уже на Лубянке наметился в нём тот переворот, который, в итоге, вернул его на оставленную некогда стезю, укрепив на ней на всю жизнь: «Это ничего, что я в тюрьме. Меня, видимо, не расстреляют. Зато я стану тут умней. Я многое пойму здесь, Небо! Я ещё исправлю свои ошибки – не перед ними – перед тобою, Небо! Я здесь их понял – и я исправлю!»
Лубянку сменила Бутырка, там А.И. получил возможность сообщить о себе родным и узнал свой приговор, после оглашения которого, занявшего ровно пять минут, его и других арестантов должны были перевести в пересыльную тюрьму на Красной Пресне, но та была переполнена и не справлялась с многотысячными потоками. Узников разместили в помещениях Бутырской церкви, приспособленных под камеры, вмещающие в себя до двух тысяч арестантов одновременно, сливавшихся в копошащуюся массу людей, ежечасно вынужденных бороться за место на нарах, под нарами, на полу, за миску, ложку и кружку, отнимавшиеся после каждой скудной еды, от вида которой заключённый тюрем царских пришёл бы в ужас. Затем была Красная Пресня. Сто человек в помещении, чуть большем жилой комнаты, где ступить на пол уже нельзя было, среди блатарей и малолеток-урок, выхватывающих из рук вещи и срывающих одежду. Первое время заключения Солженицын провёл в столице и рядом с ней, вначале трудясь на кирпичном заводе в Новом Иерусалиме, затем на улице Большой Калужской. Объявленная амнистия даровала свободу многим блатарям и бытовикам, и их заменяла 58-я.
В «Архипелаге ГУЛАГ» А.И. крайне сурово рассматривал собственные ошибки и проявления малодушия в то время, публично каясь в них и осуждая себя: то, как однажды прибегнул к помощи блатарей, чтоб занять место на нарах, то, как, кичась офицерством, жаждал занять начальственную должность, то, как стал «Ветровым», не сумев противостоять оперу, вербовавшему его в агенты. И пусть лишь один раз подписался он этой фамилией на соглашении о сотрудничестве, а после ни мгновения не был осведомителем, всё же факт этот Солженицын назвал своим позором, ничуть не пытаясь оправдать минутного малодушия серьёзными причинами, кроме одной единственной – страха, страха плоти перед новым угнетением, перед новым сроком: «Раб своего угнетённого испуганного тела, я тогда ценил только это». Именно борьбой с этим самым тяжким рабством, рабством духа у плоти стало для А.И. заключение. Здесь постигал он, что истинная свобода есть свобода духа. Свобода духа не совершать преступления, не лгать, не бояться. И свобода эта не зависит от внешних обстоятельств, но исключительно от самого человека. И во имя этой свободы лучше принести в жертву плоть, претерпеть страдания телесные, потому что только в победе духа, неподвластного никому из смертных, над плотью, заключается подлинная независимость человека, дающая ему силы жить и умирать среди людей, а не во псах.
К этой новой ступени развития Солженицын окончательно пришёл в Марфинской шарашке, куда был определён благодаря свой специальности математика. Первое время никаких исследований в Марфино ещё не велось: прибывала и сортировалась аппаратура, обустраивались помещения. А.И. в то время получил должность библиотекаря и с упоением погрузился в чтение Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского и др. Особенное впечатление произвёл на него словарь Даля, с которым не расставался он долгое время, прорабатывая и конспектируя его. Когда в Марфино начались настоящие работы, Солженицын попал в группу по изучению звучания русской речи. Основываясь на теории вероятности, он определял наименьшее количество текстов, необходимое для исследования, изучал слоговое ядро русского языка методами математической статистики. Целью этих исследований было создание анализаторов речи, распознание голосов по телефону, выяснение, что именно делает голос человека неповторимым. На всё это ушло два года.
На шарашке А.И. близко сошёлся с Л.З. Копелевым и Д.М. Паниным. Эти люди являлись непримиримыми антагонистами. Панин был убеждён, что большевики есть орудие сатаны, вся революция – плод действий злонамеренных инородцев, а спасение России может произойти лишь вследствие чуда. «Красный империалист» Копелев яростно защищал марксизм, революцию, Ленина и Сталина. Дмитрий Михайлович вспоминал: «Со Львом мы расходились по всем главным вопросам современности и прошлого… Обычно наши столкновения происходили с глазу на глаз, но иногда мы прибегали к Солженицыну как к арбитру… Солженицын – человек уникальной энергии, и сама природа создала его так, что он не знал усталости. Он частенько терпел из вежливости наше общество, про себя жалея часы, пропавшие из-за такого времяпрепровождения, но зато, когда был в ударе или разрешал себе поразвлечься, — мы получали истинное наслаждение от его шуток, острот и выдумок… Не часто выходило наружу и другое его качество – присущий ему юмор. Он умел подметить тончайшие, ускользающие обычно от окружающих, штрихи, жесты, интонации и артистически воспроизводил их комизм, так что слушатели буквально катались от хохота. Но разрешал он себе это, увы, крайне редко и только тогда, когда это не идёт в ущерб его занятиям…» Солженицын, по собственному его признанию, «пытался вести какую-то среднюю линию» между друзьями-противниками. «В ту пору он считал себя скептиком, последователем Пиррона, но уже тогда ненавидел Сталина – «пахана», начинал сомневаться и в Ленине. Снова и снова он спрашивал настойчиво: могу ли я доказать, что если бы Ленин остался жив, то не было бы ни раскулачивания, ни насильственной коллективизации, ни голода», — вспоминал Копелев. А.И. не принимал его аргументов и взрывался при попытках доказать историческую неизбежность революции, Гражданской войны, красного террора, коллективизации.
Шарашка дала Солженицыну бесценную передышку. Здесь он не только занимался прямыми обязанностями, но и – литературой. В своём столе прятал он первые зрелые размышления о революции. Как математик, А.И. также достиг больших высот. Он, по воспоминаниям Копелева, «стал отличным командиром артикулянтов, был действительно незаменим. Это понимал каждый, кто видел его работу и мог здраво судить о ней». Для чего же понадобилось Солженицыну спускаться из этого высшего круга ада, круга, о котором могли лишь грезить загибающиеся на общих работах лагерники, оставить его, променять на круги последние, на бездну? Зимой 50-го его решили перевести в криптографическую группу, то есть погрузить в невылазную работу и безраздельно завладеть его временем, необходимым для литературы. «Все доводы разума – да, я согласен, гражданин начальник! Все доводы сердца – отойди от меня, сатана!» В начале срока А.И., вероятно, послушал бы первый голос, но теперь всё стало иначе: «Я уже нащупывал новый смысл в тюремной жизни. Оглядываясь, я признавал теперь жалкими совета спецнарядника с Красной Пресни – «не попасть на общие любой ценой». Цена, платимая нами, показалась несоразмерной покупке». В романе «В круге первом» автобиографический герой Солженицына Нержин объяснит это короче: «Милое благополучие! Зачем – ты, если ничего, кроме тебя?..»
Так требования духа стали преобладать над требованиями тела. С этого момента рабство завершилось, коренной перелом состоялся: дух победил материю.
Написанное в Марфино частично сохранилось: конспекты по Далю, истории и философии сберёг Копелев, другую часть архива на свой страх и риск взяла сотрудница Марфинского НИИ Исаева (прототип Симочки из «Круга»).
Жизнь на шарашке А.И. подробно, красочно и очень точно воспроизвёл на страницах романа «В круге первом». По мнению Панина, себя в образе Нержина Солженицын изобразил исключительно верно. Именно в этом романе впервые явилась мысль, повторённая позже в статье «Жить не по лжи»: «Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через меня!» Мысль эта, к слову, веком раньше была высказана Гоголем устами Костанжогло: «Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки!» Здесь же, в Марфино, сформулировал А.И. понятие «народ»: «Народ – это не всё, говорящие на нашем языке, но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения. Но по рождению, не по труду своих рук и не по крыльям своей образованности отбираются люди в народ. А – по душе. Душу же выковывает себе каждый сам, год от году. Надо стараться закалить, отгранить себе такую душу, чтобы стать человеком. И через то – крупицей своего народа. С такою душой человек обычно не преуспевает в жизни, в должностях, в богатстве. И вот почему народ преимущественно располагается не на верхах общества». Тема народа и власти стала одной из главных в творчестве Солженицына. «В круге первом» — фактически, первое произведение А.И., не считая юношеских. Но в нём уже ярко сформировался особый стиль писателя, его манера повествования. О каждом из своих героев он рассказывает не со стороны, но вживаясь в него, погружаясь в его естество, исходя из его позиций. Это погружение естественно, когда речь идёт о Нержине и других зэках – их опыт в той или иной степени был пережит Солженицыным. Но для проникновения в психологию людей иного слоя, людей власти необходима была колоссальная интуиция. А ведь они представлены в романе ничуть не менее ярко, нежели зэки: Яконов, Абакумов, Сталин – откуда, казалось бы, столь точное постижение их сущности? Вспомним, как примерял А.И. к себе обстоятельства палачей и приходил к выводу, что, при иных условиях, и сам бы мог попасть в их число. Несомненно, берясь за их описание, вспоминал он, обличивший прежде других себя, свои дурные качества, поступки, стремления, представлял, куда могли бы завести они его, не будь пресечены обстоятельствами, раздувал их до масштабов своих кровавых героев. Но дело не только в этом. Жертва при ином раскладе могла стать палачом, но ведь и палач ещё легче мог стать жертвой. И уже стали жертвами собственной системы Зиновьев, Ягода, Ежов и многие другие. И уже отбыл срок Яконов, смертельно боящийся повторения его. И через несколько лет окажется в тюрьме и будет расстрелян всесильный Абакумов. И палачи прекрасно понимали, в большинстве своём, что один неверный шаг – и они окажутся на месте своих жертв. Среди них нет людей свободных. Они, пожалуй, ещё более несвободны, нежели бесправные зэки, поскольку у них гораздо больше есть, чего терять. Жизнь их пронизана страхом. Палачи боятся палачей. Яконов боится Абакумова, Абакумов – Сталина. Самому «отцу» бояться как будто бы некого. Но боится и он. Мнимых заговоров, врагов, всего и всех, кто может посягнуть на его власть. Этим страхом пронизано всё, сами палачи живут фактически в тюрьме, которую сами построили, и, кажется, нет исхода этому. Палачи, в большинстве своём, не родились палачами. Они были людьми. И остатки человеческого в некоторых из них ещё сохранилось и пробуждается иногда. И Солженицын пишет о них не как о палачах, но именно как о людях, палачами ставших, не обедняя палитры своей, не сводя её к двум цветам, к чёрному и белому, но стремясь к полноцветности выводимых образов, составляющих истинный реализм и художественную высоту.
Новым местом отбытия срока стал далёкий, степной Экибастуз, пятитысячный лагерь для добычи угля. За время пути сюда А.И. приметил немало перемен по сравнению с 45-м годом. Теперь уж никто не отделывался сроками в 8-10 лет, но получали «четвертак» — 25 лет. При этом народ, видимый из окошек вагона, прежде искренне принимавший зэков за врагов, теперь сочувствовал им, а не конвою. Изменились и сами обладатели 58-й. Они научились давать отпор блатным, прежде измывавшимися над ними, не встречая к тому никаких преград. «Сколько же лет мы терпели нелепо! Добро бить того, кто плачет. Мы плакали – вот нас и били». Режим строжал, а дышалось отчего-то вольнее. Внешне условия становились всё более суровыми, но атмосфера внутренняя изменялась в обратную строну, крепла вера 58-й в свою правоту, крепло взаимное доверие внутри неё.
Первое письмо домой из Экибастуза походило на исповедь: «Снова начинаю такую жизнь, какая была у меня 5 лет назад. Очень многое со мной сходно с тем, что было тогда в Новом Иерусалиме; но огромная разница в том, что на этот раз я ко всему был приготовлен, стал спокойнее, выдержаннее, значительно менее требователен к жизни. Помню, например, как я тогда судорожно, торопливо и с кучей ошибок пытался устроиться поинтеллигентнее, получше. А сейчас всё это для меня как-то не кажется главным, важным, да и надоело, признаться. Палец о палец ничего подобного не предпринял. Пусть идёт всё, как оно идёт. Я стал верить в судьбу, в закономерное чередование везений и невезений, и если во дни юности я дерзко пытался подействовать на ход своей жизни, изменить его, то сейчас мне это часто кажется святотатством. В конце концов все серьёзные перемены в моей жизни, кроме поступления в артучилище, от меня не зависели – и через все из них я прошёл цел и невредим, благословляя многие из них. И я уверен, что судьба не покинет меня и в дальнейшем. Может быть, такая вера в судьбу – начало религиозности?..»
Немало было случаев у А.И., чтобы уверовать в судьбу и прийти к фатализму. К примеру, ещё в первый год своего заключения он очень желал попасть в ансамбль, состоящий из зэков. Положение артиста спасало от общих работ, давало свободное время, а потому являлось весьма выгодным. Но стремление это не увенчалось успехом. Солженицын сожалел об этом, а через год узнал, что во время одной из поездок грузовик с артистами попал под поезд: многие погибли, другие остались калеками. Осуществись тогда желание А.И., и он был бы в их числе, но и здесь спасла судьба.
Фатализм – качество, необходимое зэку. Фатализм укрепляет душевную устойчивость. Фатализм свойственен воинам, ежеминутно рискующим быть убитым, и тяжело больным, знающим свою болезнь и краткость своего земного пребывания. Что бы ни произошло, к худшему или лучшему, но «во всяком случае ты освобождаешься от самоупрёков: пусть тебе будет хуже, но не твоими руками это сделано. И ты так сохраняешь дорогое чувство бестрепетности, не впадаешь в суетливость и искательность». Отрицаясь от своеволия, легче сохранить ясность души и чистоту совести. Своеволие не даёт блага, умножает заботы и страхи, а потому надёжнее полагаться на судьбу.
«Судьба» — именно это слово употреблял в ту пору Солженицын. К Богу он ещё не пришёл. Но ощущение «судьбы» стало первым шагом на пути к возвращению блудного сына в дом Отца. И позже он станет понимать судьбу, как Божию волю, Божию руку, не оставлявшую его на протяжении всей жизни, направлявшую на истинный путь, подчас жестокими ударами, но всегда без исключения – ко благу. «Судьба в течение жизни посылает нам знаки. На это судьба со мной не скупилась».
В Экибастузе А.И. освоил специальность каменщика. Вначале бригада строила дома для вольных, затем БУР (барак усиленного режима). Об этом написано было стихотворение «Каменщик»:
…За стеной стена растет, меж стенами стена…
Шутим, закурив у ящика растворного,
Ждем на ужин — хлеба, каш добавка вздорного —
А с лесов, меж камня — камер ямы чёрные,
Чьих-то близких мук немая глубина.
И всего-то нить у них одна — автомобильная
Да с гуденьем проводов недавние столбы…
Боже мой! Какие мы бессильные!
Боже мой! Какие мы рабы!
Свою лагерную специальность Солженицын «передал» позже своему герою Ивану Денисовичу, образ которого списал не с кого-либо из товарищей по несчастью, а с солдата, некогда служившего под его началом. В «Одном дне» А.И. детально передал лагерный быт, характеры заключённых, их отношения. Правда, поправлял Шаламов: «У вас кошка там по лагерю ходит. Быть не может! Её бы давно съели…» Однако, была категория людей, принявших «Ивана Денисовича» в штыки. То были «ортодоксы», верные партийцы-ленинцы, убеждённые в безупречности партии, в том, что несправедливо пострадали (по ошибке, разумеется) только они, тогда как прочая 58-я, несомненно, состояла из настоящих врагов, а потому они и герои их книг с презрением отгораживались от них. Все эти «благомыслы», отходив свой срок в «придурках», выйдя на волю, писали трогательные книжки о том, как в лагере они боролись за светлые идеалы марксизма совместно с добрым лагерным начальством. Ивана Денисовича они как раз упрекали в отсутствии идейности и борьбы.
«Но вот пошла пора писать историю, раздались первые придушенные голоса о лагерной жизни, благомыслящие оглянулись, и стало им обидно: как же так? они, такие передовые, такие сознательные — и не боролись! И даже не знали, что был культ личности Сталина! И не предполагали, что дорогой Лаврентий Павлович — заклятый враг народа!
И спешно понадобилось пустить какую-то мутную версию, что они боролись. Упрекали моего Ивана Денисовича все журнальные шавки, кому только не лень — почему не боролся, сукин сын? «Московская правда» даже укоряла Ивана Денисовича, что коммунисты устраивали в лагерях подпольные собрания, а он на них не ходил, уму-разуму не учился у мыслящих.
(…) Но мало любить начальство! — надо, чтоб и начальство тебя любило. Надо же объяснить начальству, что мы — такие же, вашего теста, уж вы нас пригрейте как-нибудь. Оттого герои Серебряковой, Шелеста, Дьякова, Алдан-Семёнова при каждом случае, надо не надо, удобно-неудобно, при приёме этапа, при проверке по формулярам, заявляют себя коммунистами. Это и есть заявка на теплое местечко.
(…) Алдан-Семёнов в простоте так прямо и пишет: коммунисты-начальники стараются перевести коммунистов-заключённых на более лёгкую работу. Не скрывает и Дьяков: новичок Ром объявил начальнику больницы, что он — старый большевик. И сразу же его оставляют дневальным санчасти — очень завидная должность! Распоряжается и начальник лагеря не страгивать Тодорского с санитаров.
Но самый замечательный случай рассказывает Г. Шелест в «Колымских записях»: приехал новый крупный эмведист и в заключённом Заборском узнаёт своего бывшего комкора по Гражданской войне. Прослезились. Ну, полцарства проси! И Заборский: соглашается «особо питаться с кухни и брать хлеба сколько надо» (то есть, объедать работяг, ибо новых норм питания ему никто не выпишет) и просит дать ему только шеститомник Ленина, чтобы читать его вечерами при коптилке! Так всё и устраивается: днем он питается ворованным пайком, вечером читает Ленина! Так откровенно и с удовольствием прославляется подлость!
Еще у Шелеста какое-то мифическое «подпольное политбюро» бригады (многовато для бригады?) в неурочное время раздобывает и буханку хлеба из хлеборезки и миску овсяной каши. Значит — везде свои придурки? И значит, — подворовываем, благомыслящие?
Всё тот же Шелест даёт нам окончательный вывод: «одни выживали силой духа (вот эти ортодоксы, воруя кашу и хлеб. — А. С.), другие — лишней миской овсяной каши (это — Иван Денисович)».
Ну, ин пусть будет так. У Ивана Денисовича знакомых придурков нет. Только скажите: а камушки? камушки кто на стену клал, а? Твердолобые, вы ли?» («Архипелаг ГУДАГ»)
К слову, положение «придурков» также очень выпукло показано в «Одном дне» на примере Цезаря Марковича. В то время, когда другие зэки горбят на каменной кладке в ледяной степи, он спокойно сидит в тёплой каптёрке, курит, пьёт чай, обсуждает Эйзенштейна. Ему не надо дрожать над семьюстами граммами хлеба и баландой, потому что из дома ему приходят большие, набитые всякой всячиной посылки. Он может даже «с барского плеча» отдать свою баланду прислуживающему ему Ивану Денисовичу, для которого она спасительна.
«Один день Ивана Денисовича» был задуман в Экибастузе. Там же создавались другие произведения. Хранить их в записях было опасно, поэтому большая часть всего сочинённого хранилось лишь в феноменальной памяти Солженицына. «Пусть будет путевым мешком твоим – твоя память. Запоминай! запоминай! Только эти горькие семена, может быть, когда-нибудь тронутся в рост». Так сохранены были автобиографическая поэма «Дороженька», пьеса «Пир победителей», стихотворения… Солженицын вспоминал, что поэзия была жанром вынужденным, поскольку стихи было запоминать гораздо проще, нежели прозу. Хотя под конец срока стал он писать и заучивать и прозу, и диалоги – и память вбирала всё. «Память у Солженицына была гигантской, так как по объёму его произведение («Дороженька» — авт.) было в два с лишним раза больше «Евгения Онегина», в котором около 5400 стихотворных строчек», — вспоминал Панин, также сменивший марфинское благополучие на лагерную тачку. Для лучшего запоминания сочинённого А.И. сделал себе длинные чётки с метрической системой, на которых откладывал каждый стих. Он носил их в рукавице, а когда находили при обыске, говорил, что молится по ним. Новые строфы Солженицын читал наиболее близким друзьям. Его образ в эти моменты запечатлел в своих воспоминаниях Панин: «Шея замотана вафельным полотенцем, лицо сосредоточено, взгляд устремлён вдаль, губы шепчут стихи, в руках чётки. Так читал он нам каждую неделю новые строфы всё возрастающей поэмы». Он же отмечал: «Мы были горды тем, что в нашей среде формируется писатель огромного калибра, так как это уже тогда было ясно».
Среди лишений и тягот душа всё больше очищалась от наносного, возвышалась, обретала крылья. «Сейчас я верю в себя и в свои силы всё пережить… — писал А.И. жене. – Я на лично опыте понял, что внешние обстоятельства жизни человека не только не исчерпывают, но даже не являются главными в его жизни».
Новое настроение мужа, его явившееся вдруг смирение было воспринято Натальей Решетовской, как слабость, как признание своего поражения. Это был уже другой человек, незнакомый, чужой, с которым её связывала лишь нить двух разрешённых в год писем и посылки, на которые она давала деньги тётке, так как собирать и отправлять их сама боялась: тогда бы о её «живом мертвеце» узнали все… О необходимости формального развода Решетовская впервые сказала ещё в марфинский период. А.И. не возражал, но даже настаивал на этом, понимая невыносимое положение «жены врага народа».
«Постарайся как можно меньше обо мне думать и вспоминать, пусть я превращусь для тебя в абстрактное, бесплотное понятие. Да это даже и неизбежно с ходом лет», — писал Солженицын жене. Пророчество сбылось: А.И., действительно, превратился для Натальи Алексеевны в «абстрактное и бесплотное понятие». Его место занял «реальный человек», коллега-химик, вдовец с двумя детьми, с которым они стали жить в Рязани, в двух комнатах, выделенных доценту Решетовской институтом. «Не буду себя ни оправдывать, ни винить. Я не смогла через все годы испытаний пронести свою «святость». Я стала жить реальной жизнью», — написала она мужу и возобновила хлопоты по расторжению брака.
Долгое время Наталья Алексеевна не писала А.И. Он терялся в догадках: то ли вышла замуж она, то ли увлеклась на время, а теперь считает себя виноватой, то ли страдания нанесли её здоровью физический ущерб – обвинял себя в том, что исковеркал её молодость, не принёс радости, заранее прощал всё: «От всего сердца желаю твоему измученному телу – здоровья, твоей исстрадавшейся душе – покоя и счастья, со мной или не со мной – как будет лучше для тебя… Я буду молиться за тебя и желать тебе ничем не омрачённого счастья, если ты не найдёшь пути назад». Солженицын добивался ясности. Он писал тёще, умоляя ответить, что произошло. Тётка Решетовской, продолжавшая снабжать его посылками, ответила: «Наташа просила Вам передать, что Вы можете устраивать свою жизнь независимо от неё». Наконец, написала и сама Наталья Алексеевна прямо, что у неё новая семья, и это – её настоящее.
Шёл последний год заключения. А.И. только что перенёс удаление опухоли в паху. Она начала расти ещё несколько месяцев назад, но Солженицын откладывал обращение в санчасть, ожидая удобного момента. Такой момент наступил после экибастузского восстания. Всё началось с массовых убийств стукачей, организованных украинцами-бандеровцами. Сбежавших от расправы доносчиков начальство спрятало в БУРе. Туда же поместили подозреваемых в убийствах, отдав их на расправу стукачам. Пришедшие с работы бригады услышали крики пытаемых людей и бросились штурмовать БУР. Охрана открыла огонь по людям в зоне. В ответ на это русский лагпункт объявил забастовку, украинцы же участвовать в ней не стали. Трое суток зэки не выходили на работу и отказывались от еды. Эта акция явила собой колоссальный подъём духовных сил арестантов. Солженицын, ставший в ту пору бригадиром (должность эта перестала быть вожделенной, так как представляла опасность, и прежние бригадиры отказывались от своих мест, отчего образовался их дефицит), вспоминал: «Этот взлёт я ясно ощущал на себе. Мне оставалось сроку всего один год. Казалось, я должен был бы тосковать, томиться, что вмазался в заваруху, из которой трудно будет выскочить без нового срока. А между тем я ни о чём не жалел. Кобелю вас под хвост, давайте хоть и второй срок!..»
Позже КГБ состряпало фальшивку – «донос Ветрова» о готовящемся восстании. Сработанная топорно, она, тем не менее, была подхвачена и повторена многократно. Последний раз мнимый «донос» всплыл в 2003-м году уже в либеральной прессе. Отвечая на клевету, А.И. отметил деталь, неопровержимо изобличающую подделку: «В самом главном месте фальшивки – провальный для гэбистов просчёт: «донос» на украинцев пометили 20 января 1952, цитируют «сегодняшние» якобы разговоры с украинцами-зэками и их «завтрашние» планы, но упустили, что ещё 6 января все до одного украинцы были переведены в отдельный украинский лагпункт, наглухо отделённый от нашего, — и на их лагпункте вообще никакого мятежа в январе не было, а к стихийному мятежу российского лагпункта 22 января – не имели они касательства, не участвовали и близко».
По окончании забастовки Солженицын слёг в больницу. Рядом лежали раненые и зверски избитые люди, умиравшие от потери крови. Врачи колебались в диагнозе, но операция всё же была проведена. В тот момент метастазов она не дала. Поправившись, А.И. вернулся в лагерь, где попал на тяжёлую физическую работу в литейный цех, куда попросился сам, чтобы не быть на виду: вдвоём с напарником приходилось носить литьё, 75 кг на каждого. На этой-то работе он и заработал метастазы.
Та весна довершила духовный переворот, шедший в писателе все годы заключения. Казалось, что кто-то нарочно посылал всё новые и новые испытания, чтобы душа очистилась и выздоровела. Православная вера учит, что скорби и болезни суть посещение Божие, Его попечение. «Усвоенная мной за последнее время уверенность в Божьей воле и Божьей милости облегчила мне эти дни…» — написал А.И. жене, выйдя из больницы. «Чувством возвращения веры» называл он тогдашнее своё настроение. Как некогда из многочисленных падений и отступлений, из «мёртвого дома» Омского острога, через многие горнила проходя, рождалась Осанна в душе Ф.М. Достоевского, так теперь рождалась она и в душе Солженицына:
Да когда ж я так до’пуста, до’чиста
Всё развеял из зёрен благих?
Ведь провёл же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!
Рассверкалась премудрость книжная,
Мой надменный пронзая мозг,
Тайны мира явились — постижными,
Жребий жизни — податлив как воск.
Кровь бурлила — и каждый вы’полоск
Иноцветно сверкал впереди, —
И, без грохота, тихо рассыпалось
Зданье веры в моей груди.
Но пройдя между быти и небыти,
Упадав и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.
Не рассудком моим, не желанием
Освещен её каждый излом —
Смысла Высшего ровным сиянием,
Объяснившимся мне лишь потом.
И теперь, возвращенною мерою
Надчерпнувши воды живой, —
Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отрекшимся был Ты со мной…
13-го февраля 1953-го года А.И. покинул Экибастуз. Срок его окончился, и теперь ожидала его вечная ссылка, с мыслью о которой он уже свыкся, тем более, что на всей земле никто не ждал его, нигде не было его дома. И всё же была пьянящая радость свободы. И было дело, коему должны были быть отданы лучшие силы. Были тысячи строк, пронесённых в недрах памяти и ожидающие быть записанными на бумагу.
За годы, проведённые в заключении, в тюрьмах, лагерях, на этапах и пересылках великое множество людских судеб прошло перед взором писателя. Он не упускал возможности выспросить всякого встречного о его жизни, скрупулёзно подмечал всё, что впоследствии явится на страницах бессмертного памятника всем погибшим и выжившим в этих дантовых кругах – «Архипелаге ГУЛАГ». В то время ещё не было у А.И. идеи написать столь объёмный труд, но уже инстинктивно собирался материал к нему, будто бы жило знание где-то в глубине: однажды всё это понадобится.
«Архипелаг ГУЛАГ» — книга, которая по сей день вызывает огромное количество споров. Автора подчас упрекают в неточности приводимых фактов, в ряде ошибок. Однако А.И. не раз оговаривался, приводя тот или иной рассказ, что за подлинность его ручаться не может, а лишь передаёт свидетельства других людей. Действительно, отдельные факты позже были уточнены, но те, кто рассуждают о недостоверности ряда деталей, отчего-то забывают условия, в которых создавалась эта книга. Это сегодня все архивы открыты к услугам исследователей. Это сегодня написано и издано немало мемуаров и документальной литературы. Это сегодня можно более тщательно выверить все цифры и обстоятельства, хотя всё равно остаётся немало тёмных пятен. Но в 70-е годы ничего подобного не было! Были лишь официальные источники, редкие воспоминания, часто подогнанные конкретно под борьбу с культом личности, и личный опыт автора, опыт людей, которых встречал он на своём пути, а также тех, кто присылали ему письма о том, что пережили. И, вот, из таких-то скудных источников создано было первое серьёзное исследование, первый масштабный труд, поведавший миру о ГУЛАГе. И создано оно было в России, при соблюдении строжайшей конспирации, под постоянной угрозой ареста, при невозможности хранить материалы в одном месте – в условиях, в которых большинство писателей вряд ли сумели бы написать хоть что-либо. Рассуждающие о недостатках «Архипелага» отчего-то не задаются вопросом, почему никто не сумел создать подобного труда? «АГ» ярко и точно показывает общую картину истребления народа России, и отдельные фактические погрешности, непроверенные детали никоим образом не меняют её, не меняют главного. Но главного видеть не хотят, сосредотачивая внимание именно на мелочах.
Среди упрёков «Архипелагу» встречается и такой, что написан он слишком личностно, пристрастно. Варлам Шаламов употребляет даже слово «истерика». «АГ», в самом деле, не является классической публицистической монографией. Солженицын открыл этой книгой новый жанр – художественной исследование. Именно благодаря этой художественности, особости стиля и языка, этому живому присутствию автора в каждой строчке, этой обращённости его ко всякому читателю, диалогу с ним, «Архипелаг» оказал такое колоссальное влияние на множество людей. Ни одно из сочинений разного калибра, написанное до того, не имело такого резонанса. Академик Игорь Шафаревич, друг и соратник Солженицына, замечает по этому поводу: «Говорят, это орудие «холодной войны». Но ведь на Западе до Солженицына было много книг о красном терроре. Но никакого эффекта они не произвели. Талант не тот. И только книги Солженицына подействовали».
Большая же часть нападок вызвана ставшим, увы, традиционным для России нежеланием и неумением внимательно читать то, о чём берутся рассуждать. Многие основывают свои суждения о творчестве А.И. на чужих отзывах, на сплетнях, на предвзятых мнениях, рождённых потоками клеветы. Иные изначально имеют к книге и самому автору неприязненное отношение и уже всё, что берутся читать, читают именно под этим, критическим углом, не желая изменять своего взгляда. Такое отношение умножает ложные оценки, домыслы и неоправданные нападки. К примеру, в патриотическом лагере частенько по сию пору можно услышать басню о том, что сам Солженицын – еврей, и книга его (разумеется) защищает евреев. Эти слухи, как и все прочие, были запущены КГБ. «Контора» одновременно выдавала «свидетельства» об антисемитизме А.И. (со школьных времён) и, наоборот, о его еврейском происхождении. Такой метод очернения с противоположных сторон разом использовался затем и в отношении других лиц, широко применяется и в наши дни. Палят во все цели одновременно в расчёте, что куда-нибудь да попадут же, что из всего потока облыжной клеветы да западёт же хоть что-то, сохранится, станет передаваться, обрастая новыми слухами – и расчёт оправдывается. Утверждение, приведённое выше, выявляет в тех, кто на нём настаивает, людей, не знакомых с «АГ». Отдельные представители еврейской общественности, между тем, книгу эту объявили антисемитской уже за то одно хотя бы, что на одной из страниц приведён там «иконостас» — фотографии начальников лагерей. И перечислены все начальники эти поимённо, как палачи и изуверы, коих каждый должен помнить: «Так впору было бы им выложить на откосах канала шесть фамилий — главных подручных у Сталина и Ягоды, главных надсмотрщиков Беломора, шестерых наёмных убийц, записав за каждым тысяч по тридцать жизней: Фирин — Берман — Френкель — Коган — Раппопорт — Жук. Да приписать сюда, пожалуй, начальника ВОХРы БелБалтЛага — Бродского. Да куратора канала от ВЦИК — Сольца. Да всех 37 чекистов, которые были на канале. Да 36 писателей, восславивших Беломор. Еще Погодина не забыть. Чтоб проезжающие пароходные экскурсанты читали и – думали». Негодовал против «Архипелага» Лев Копелев: «Но еще мучительнее было читать в «Архипелаге» заведомо неправдивые страницы в главах о блатных, о коммунистах в лагерях, о лагерной медицине, о Горьком, о Френкеле (очередной образ сатанинского иудея, главного виновника всех бед, который в иных воплощениях повторяется в Израиле Парвусе и в Богрове)».
Широта нападок на Солженицына из разных лагерей беспрецедентна. Её можно сравнить разве что с травлей Достоевского, неугодного ни одному лагерю. Правда, и она была не столь масштабна. Но да в 19-м веке всё же не столь развиты были СМИ, «компетентные органы», и основы приличий ещё не были забыты окончательно. Думается, в 20-м веке Фёдор Михайлович получил бы в свой адрес не меньший поток обвинений и самой мерзкой клеветы. Сегодня Достоевский стал знаменем большой части русской общественности, склонной даже к излишней идеализации его образа, и лишь немногие оголтелые русофобы типа Чубайса позволяют себе открыто высказывать свою ненависть к нему. Думается, что пройдёт известное количество времени, страсти остынут, и фигура Солженицына, его творчество также будет оценено по достоинству.
Неприятие «Архипелага» имеет ещё одну причину. Она заключена в самой теме. К сожалению, так уж вышло, что слова «репрессии», «ГУЛАГ», «лагеря» ассоциируются у подавляющей массы населения с 37-м и 38-м годами и лишь с одной, меньшей частью жертв. Как произошло это? Роковая подмена началась ещё при разоблачении культа личности. Тогда, в первую очередь, бросились реабилитировать старых партийцев, «невинно пострадавших» старых большевиков, среди которых было немалое число тех, кто приложил руку к расправам с безвинными людьми ещё при Ленине. Оправдывали одних палачей, пострадавших от рук других палачей. Верные партийцы, не загибавшиеся на общих, пользовавшиеся сочувствием лагерного начальства, устраивавшего их на тёплые места, а потому в отличие от бесчисленного множества крестьян, священников и других зэков благополучно уцелевшие, бросились писать мемуары, насквозь пронизанные ложью. Сталин стал единственным козлом отпущения, тогда как Ленин, его приспешники, партия, даже сотрудники НКВД и лагерные начальники оказывались вне критики, оставаясь «умом, честью и совестью». В конце 80-х история повторилась. Реабилитировать ринулись опять же палачей: Зиновьева, Каменева, Бухарина и т.п. Так выработался стереотип, будто бы в 30-х уничтожали (и поделом — за все художества) только их, а все прочие жертвы оказались благополучно забыты, словно их и не было. Процесс же их реабилитации прочно увязался с именами людей, разрушавших государство, людей, ненавидящих не столько советскую власть, но саму Россию, не советское, а русское, не партию, но сам русский народ. О репрессиях больше всех кричали те, чьи предки весьма отличились по части истребления народа в «славные» ленинские времена. Те, которые разграбляли страну в 90-е. Те, что открыто радовались каждой русской беде с экранов. Те, что продолжали всемерно дело Ленина и Ко. Их вещания о «незаконно репрессированных» приводили к обратному эффекту: «то, что говорят они, не может быть правдой, по определению, стало быть, и все репрессии – это ложь, и побили тогда только таких гадов, как они, и прав был товарищ Сталин» – такой вывод делали для себя многие обыватели. Именно с таких позиций начинает расцениваться всякое упоминание об этой теме, всякая книга о ней, всякий, берущийся писать или говорить о ней. Происходит инстинктивное отторжение. Таким образом, рассуждения о репрессиях из уст продолжателей дела палачей России служили и служат дискредитации их жертв, мешают подлинному пониманию истории и отдаляют постижение русской трагедии 20-го века.
Солженицын заметил эту крайне опасную тенденцию ещё при зарождении её. В «Архипелаге ГУЛАГ» он писал: «Этих людей не брали до 1937 года. И после 1938-го их очень мало брали. Поэтому их называют «набор 37-го года», и так можно было бы, но чтоб это не затемняло общую картину, что даже в месяцы пик сажали не их одних, а всё те же тянулись и мужички, и рабочие, и молодежь, инженеры и техники, агрономы и экономисты, и просто верующие.
«Набор 37-го года», очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио, создал «легенду 37-го года», легенду из двух пунктов:
1) если когда при советской власти сажали, то только в 37-м, и только о 37-м надо говорить и возмущаться;
2) сажали в 37-м — только их.
Так и пишут: страшный год, когда сажали преданнейшие коммунистические кадры: секретарей ЦК союзных республик, секретарей обкомов, председателей облисполкомов, всех командующих военными округами, корпусами и дивизиями, маршалов и генералов, областных прокуроров, секретарей райкомов, председателей райисполкомов…
В начале нашей книги мы уже дали объём потоков, лившихся на Архипелаг два десятилетия до 37-го года. Как долго это тянулось! И сколько это было миллионов! Но ни ухом, ни рылом не вёл будущий набор 37-го года, они находили всё это нормальным».
Елена Семёнова
Источник:http://rys-strategia.ru/news/2018-11-09-6292



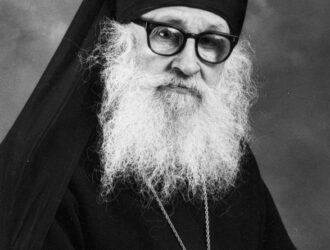
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.