Евгений ПЛАТУНОВ: УЛИЦЫ БАРНАУЛА И УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Сложилось мнение, что почти никаких значимых следов от Первой Мировой войны, от ее участников со времен СССР не осталось. Этому, конечно, есть простое объяснение, не связанное с политической оценкой войны 1914-1918 годов: просто последующие события, прежде всего, Великая Отечественная война 1941-1945 годов, не могли не заслонить в коллективной памяти наших сограждан ту войну, что в народе вспоминали как «германскую». Помните, как высказался в свое время Шукшин о своем старшем земляке в рассказе «Чужие»? «Что он воевал, меня это не удивило - у нас все почти старики где-нибудь, когда-нибудь воевали...».
Но и на карте Барнаула есть сейчас 11 улиц и переулков, названных в память о людях - участниках Первой Мировой войны. Боевой опыт или награды той войны (трое из них - Георгиевские кавалеры!), а значит авторитет способствовали выдвижению их на заметные места в последующих за Первой Мировой войной бурных событиях в России и на Алтае.
В «борьбе с немецким засильем»
В Центральном районе Барнаула есть сейчас улица Денисова. Это название в память о казненном колчаковцами Степане Куприяновиче Денисове появилось в 1927 году. А до этого года улица называлась Бельгийской. Появление «национального» названия связано с началом так называемой «антинемецкой кампанией 1915 года».
«Журнал очередного собрания Барнаульской городской думы № 9 от 21 января 1915 года - О переименовании Немецкой улицы в Бельгийскую.
Доложено: Жители Нагорной части города 23 августа сего года просили городского голову войти с ходатайством о переименовании Немецкой улицы в Бельгийскую.
Соглашаясь с этим желанием жителей, городская управа просит думу вынести соответствующее постановление. Городская дума единогласно постановила: возбудить ходатайство о переименовании Немецкой улицы в Бельгийскую» (Ф. 51, оп. 1, д. 17, л. 38).
Переименования в стране на волне «патриотического подъема» в годы Первой Мировой войны не ограничились только этой барнаульской улицей. Пример подали на самом верху: 18 августа 1914 года появился указ о том, что «Государь Император Высочайше повелеть соизволил именовать впредь город Санкт-Петербург Петроградом».
Улица Мамонтова
Житель села Вострово и будущий главнокомандующий партизан Алтайской губернии Ефим Мефодьевич Мамонтов был призван на военную службу в 1910 году. Служил в 1-й телеграфной роте 1-ого Сибирского инженерного батальона. В феврале 1917 года батальон будет развернут в 1-й Сибирский инженерный полк. 18 марта 1916 года «за отлично-усердную и особо ревностную службу и труды, понесенные на театре военных действий» Ефима Мефодьевича наградили серебряной нагрудной с медалью на Станиславской ленте «За усердие». Примечательно, что в том же батальоне служил земляк Мамонтова - Павел Демьянович Тибекин из села Осколково (ныне Алейского района) служил во 2-й саперной роте батальона. Тибекин к лету 1915 года был награжден Георгиевскими крестами всех четырех степеней и двумя французскими медалями. Мамонтов дважды награждался Георгиевским крестом в 1917 году: в июле - 4-й степени («...за то, что с 1 ноября 1916 года по 7 января 1917 года… неоднократно вызывался охотником, подползал к проволочным заграждениям противника, заземлял провода и перехватывал разговор противника по телефону»), в ноябре - 3-й степени («...с 6 по 12 июня 1917 года, находясь под сильным и действительным огнем противника, вызвавшись охотником и проявляя мужество и самоотвержение, руководил работами по восстановлению связи… и тем обеспечил успех»).
О последующем вкладе Мамонтова в создание партизанской армии и в прекращение гражданской войны на Алтае много писали в советское время. В память о Ефиме Мефодьевиче назван районный центр Мамонтово, были широко известны соревнования фехтовальщиков «Сабля Мамонтова», в Барнауле на проспекте Ленина есть бюст Мамонтова (на пересечении с улицей Толстого). Сам Ефим Мефодьевич похоронен в братской могиле у мемориала «Борцам за социализм» (на аллее, у пересечения улицы Никитина и проспекта Ленина). Его смерть во Власихе в 1922 году и сейчас вызывает споры историков - или о «заговоре», или о «бытовой ссоре». Но как бы там не было, но уже в плане Барнаула 1923 года зафиксировано название «улица товарища Мамонтова». Так стала называться бывшая улица Подгорная. В 1927 году переименование было официально утверждено.
Улица казака Жигалина
В Центральном районе (станция Ползуново и Борзовая Заимка) с 1967 года есть улица имени Якова Жигалина - бывшего начальника штаба партизанской армии Мамонтова. Яков Павлович родился 1(14) апреля 1890 года в станице Зоргольской в Забайкалье. В 1914 году сельского учителя Жигалина призвали в армию. Воевал со своим 2-м Читинским казачьим полком на Кавказском фронте. В 1917 году он, окончив четырех месячный курс в Иркутском военном училище, был направлен в свой полк уже прапорщиком. Когда полк вернулся с войны в Забайкалье Жигалина избрали своим командиром. После начала боев с семеновцами Жигалин становится начальником штаба Зоргольского красногвардейского торяда. После поражения советской власти в Сибири с паспортом на имя Виктора Петровича Бурцева казак Жигалин попал на алтайскую станцию Рубцовка. После взятия Рубцовки партизанами Мамонтова 15 сентября 1919 года Жигалин включился в работу по организации растущей партизанской армии. В 1920 году Жигалин вернулся в Забайкалье. Алтайское книжное издательство опубликовало в 1965 году книгу его мемуаров. Умер Яков Петрович в Ленинграде 21 июля 1983 года.
Переулок Малюкова
Зимой 1915 года в Барнаул в 24-й Сибирский запасной полк прибыл на службу из Петрограда молодой энергичный прапорщик Николай Дмитриевич Малюков. В бурном 1917 году он станет в марте комиссаром по городской милиции в составе местного органа Временного правительства - в Барнаульском комитете общественного порядка. Барнульский дитератор и учитель Порфирий Казанский в своем очерке «Мартовские дни в Барнауле» (опубликован в журнале «Сибирский рассвет», №5, 1919) хорошо предает первые настроения эйфории после свержения монархии:
«Но вот появляется на трибуне солдат, а с ним офицер молодой, кудрявый, взволнованный.
- Дайте нам хлеба, а мы дадим вам победу, - говорят они. - Солдат и офицер теперь братья!
И целуются на глазах у всех.
Зал стонет от оваций. Многие плачут. Из задних рядов слышится голос:
- Все отдадим!
Офицера и солдата качают. Странные шутки шутит история. Этот кудрявый офицер, так красиво и вдохновенно обещавший крестьянам победу, был прапорщик Малюков, через полгода уже ярый большевик, один из столпов барнаульской советской власти. А в июне 1918 г. он был расстрелян...». Кстати, этот отрывок из очерка Казанского почему-то не попал в публикацию в хрестоматии «Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии: 1917-1922», Барнаул, 2001.
Писатель Ефим Пермитин, описывая как очевидец пожар Барнаула 2 мая 1917 года, тоже вспоминал Малюкова: «...Военного в дымящейся гимнастерке, с опаленными ресницами и бровями узнали — это был офицер четвертой роты прапорщик Малюков. И еще спасли одного человека из этого большого, перенаселенного жильцами доходного дома — разбитого параличом казначейского чиновника. Его на матрасе спустили через балкон: оба выхода из дома, забитые сундуками и мебелью, горели...» («Жизнь Алексея Рокотова»).
Николая Малюкова расстреляли сразу на следующий день после занятия Барнаула белыми и чехословаками - 15 июня 1918 года. Такой быстрой расправе поспособствовали и слухи о якобы жестокости Малюкова к арестованным в Барнауле белым подпольщикам. Он и сам всего за неделю до гибели пытался равзеять эти слухи. В газете «Голос труда» (№ 113 от 9 июня 1918 года) было опубликовано опровержение Малюковым «провокационных сплетен» в его адрес:
«ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Низкие клеветники, подлые провокаторы, – герои из-за угла распространяют гнусную ложь, что будто бы я, Николай Малюков, был вдохновителем ареста бывших офицеров всех рангов и якобы предлагал учинить арестованному офицерсту кровавую баню. Заявляю твердо и категорически, что аресты производились в моем отсутствии в Барнауле, с презрением отвергаю провокаторские сплетни о моем якобы проекте сожжения офицерства, и стану настаивать перед Военно-Революционным Комитетом на предании самому беспощадному суду провокаторов, рассеивающих грязную, будирующую население ложь.
Ник. Малюков».
По воспоминаниям очевидцев, на расстрел Малюкова вели на Нагорное кладбище избитого и со сломанной рукой. Но все же он успел написать свое легендарное предсмертное послание на стволе березы. Позже к этим последним строкам добавились и другие - одни с сочувствием, другие с проклятиями. Хотя то исписанное дерево поспешили спилить, но надписи и дальше продолжали появляться - таково было вселбщее ожесточение в те летние дни 1918 года...
Бывший барнаульский переулок Низкий Яр был назван переулком Малюкова.
Улица Казакова
Эта улица впервые зафиксирована на плане города (в нынешнем Октябрьском районе) в 1925 году. Михаил Кириллович Казаков (1887-1918) - уроженец Уфы, работал в землеустройстве Алтайского горного округа, в 1916 году был призван в армию, служил в Томске. В 1917 году вернулся в Барнаул. В мартовские дни, когда было получено извести из Петрограда о свержении монархии, Казаков вместе с прапорщиками Николаем Малюковым и Дмитрием Сулимом арестовали командира 24-го Сибирского запасного стрелкового полка. Казаков возглавил военный отдел в Барнаульском Совете депутатов. Когда в деабре 1917 года на Алтае была установлена Советская власть, Казаков стал председателем высшего губернского революционного суда, позже был избран заместителем председателя губернского исполкома. Как заместитель председателя губернского ревкома Казаков руководл сопротивлением наступлению белочешских отрядов на Барнаул в начале июня 1918 года. Он возглавил эвакуацию из Барнаула советских активистов и красногвардейцев, выехав с последним эшелоном на станцию Алейская. Вместе с советскими руководителями Алтайской губернии Матвеем Цаплиным и Иваном Присягиным Михаила Казакова задержали в селе Луковка (ныне Панкрушихинского района). В сентябре 1918 года Казаков погиб вместе с Цаплиным и Присягиным. Обстоятельства их гибели и место захоронения до сих пор не выяснены...
«Сулима»
Хорошо знакомое теперь и в шоу-бизнесе название барнаульского микрорайона восходит к временному названию улицы, ставшей первой в поселке Урожайный. Первопоселенцы улицы Георгиева помнят не только ее певое название - Урожайная, но и самое первое - «имени Сулима». Но со временем и ударение стало в этом слов-фамилии падать на другую букву и вообще оно изменилось на «Сулему» (в псевдониме молодого певца-барнаульца). Кто же такой Сулим-»Сулима/Сулема»?
Дмитрий Григорьевич Сулим родился в 1892 году в семье крестьянина Полтавской губернии (Гядячский уезд, хутор Побыванка), окончил начальную и двухклассную школу. Работал учителем в Шукайводской экономии на станции Христиновка. В Первой Мировой войне Сулим сначала участвовал как рядовой 1-й роты 531-й Вятской пешей дружины. В 1916 году (как учитель) он был направлен в Одесское военное училище, после окончания которого оказался в 24-м Сибирском запасном стрелковом полку в Барнауле. После февральской революции Сулим был начальником гарнизона Барнаула, председателем Алтайского губернского комитета Партии Социалистов-революционеров (без разделения на левых и правых), членом Совдепов разного уровня. Он был Барнаульским уездным комиссаром Временного правительства. Одновременно он входил и в руководство Алтайским отделением «Украинской громады» - организации, требующей автономии Украины, руководил хором «Украинской громады». Большевики поначалу не доверяли Сулиму -ькак председателю губкома эсеров. Ираида Третьякова описывает такой случай. Когда в конце 1917 года проводилось собрание красногвардейцев. На собрание пришел Сулим. Красногвардейцы заволновались, зашумели и начали стучать прикладами винтовок в пол. Председательствующий попросил Сулима удалиться, и тот ушел. В начале 1918 года Сулим вообще был объявлен вне закона - за участие в Томске в подпольном заседании Сибирской областной Думы: в ночь с 25 на 26 января 1918 года он был избран в так называемое «правительство Дербера» министром «экстериториальных народностей». 26 января 1918 года представители Советской власти объявили, что он, в числе других министров правительства Дербера, подлежит «аресту и преданию суду революционного трибунала» по обвинению в организации власти, враждебной рабочим и крестьянским совдепам. Но в конечном итоге Дмитрий Григорьевич больше известен как участник и один из руководителей похода красногвардейцев отряда Федора Сухова - сначала по степной части Алтая, а потом по предгорьям. Биография Дмитрия Сулима обрываетс после боя с белогвардейцами 10 августа 1918 года у села Усть-Иня: по одной версии его тело унесла река, по другой - он похоронен вместе с погибшими красногвардейцами.
Улица Карева - это улица Георгиевского кавалера
Семен Петрович Карев (1885-1918) - еще один участник Первой Мировой войны, в память о котором в Барнауле названа улица. Георгиевский кавалер был избран в 1917 году секретарем исполкома Барнаульского Совета депутатов. Семен Петрович - коренной барнаулец, родился в семье рабочего-жестянщика. С 1927 года бывший Суховский переулок носит имя Карева. А вот бывший проезд Карева был, наоборот, в 1963 году переименован - в память о Фроловых, отце и сыне - изобретателе и организаторе горнорурдного производства начала XIX века. То есть это наглядный пример, как в советское время пожертвовали частично памятью борца за Советскую власть, чтобы возродить память о деятелях совсем другой эпохи!
Обстоятельства гибели Семена Карева после свержения в Барнауле Советской власти полны драматизма. Известно как его жена смогла наладить связь с тюрьмой, где содержали мужа, как помогали ей в этом, в том числе и представители семьи белого офицера Смоленникова. Краевед из Барнаула Юрий Иванович Гончаров опубликовал воспоминания сестры Карева - Варвары Петровны Уженцевой: «...Жена его Мария Алексеевна все время старалась спасти его. Она установила связь с офицерами, потом поступила каким-то начальником в тюрьму с целью спасти мужа и оказывать помощь своим и его товарищам, находящимся в тюрьме. Но все это не помогло. Правда он не был убит вместе с Цаплиным и Присягиным, но все таки и его расстреляли... Потом Мария Алексеевна добилась, чтобы нам отдали его труп для похорон... Это разрешили, но строго-настрого предупредили, чтобы похороны прошли тайно и чтобы на похоронах никого не было и чтобы об этом никто ничего не знал. Они его вырыли из могилы где-то в лесу - там где он был расстрелян и похоронен в общей могиле. Когда его привезли в Барнаул, то он лежал у нас дома на столешне... Стреляли его очевидно в голову, потому что когда я открыла покрывало, чтобы посмотреть... то у него левый висок - все было черное. Похоронили мы его на старом кладбище и поставили памятник... Сейчас там парк Меланжевого комбината ... и ничего от могилы не сохранилось».
Вот и известно теперь место захоронения в Барнауле его уроженца и Георгиевского кавалера Первой Мировой войны. И убили его уже после того как Губернская следственная комиссия оправдала его по двум обвинительным пунктам из трех, назначив шесть месяцев тюрьмы. Свидетельство Семена Михайловича Сандакова: «Был суд и Семенну Петровичу предъявили три обвинения: 1. Дезертирство с фронта. 2. Вывод из строя речного транспорта. 3. При оставлении большевиками г. Барнаула - был комендантом Барнаула. ...по п. 1 - оправдали... по п. 2 - оправдали, а по п. 3 - осудили на 6 месяцев тюрьмы. В ноябре 1918 года прибегает Мария Алексеевна и говорит, что Семена Петровича вывели из тюрьмы. С Каревым было 2 или 3 человека. Она сама это видела... Дня через 2-3 ... поехали с ней на ст. Алтайская. Пошли на водокачку. Нашли там жену машиниста водокачки, выяснили у нее: жена машиниста водокачки получила через железнодорожников сведения, что ее мужа отправляют в Новониколаевск. Он просит принести ему что-нибудь теплое из одежды. Она все собрала и вышла на станцию. Но вооруженные белогвардейцы ничего у нее не приняли. Прогоняли ее. Она совсем не ушла, стала наблюдать и увидела, что ее мужа и каких-то незнакомых ей заключенных вывели из ж.д. вагона и повели к бараку, где находились пленные австрийцы. Но австрийцы, как видно, у барака расстреливать не дали, тогда они вывели заключенных из барака, завели в ближайший березняк и там расстреляли... Потом я был на похоронах Семена Петровича... Были жены Казакова и Цаплина, мужчин мало было...».
Улица Сухова
Некоторое время назад прочел в районной газете Солонешенского района полное гнева мнение о красногвардейцах-суховцах: их командир в глазах автора той статьи - казачьего активиста - чуть ли не босяк горьковского литературного типа. Между тем будущий участник первых событий гражданской войны на Алтае Петр Федорович Сухов пролил, как и многие другие, свою кровь на фронте Первой Мировой войны в конце 1914 года «за Веру, Царя и Отечество», выйдя из госпиталя прапорщиком.
Информацию о Сухове как о «прибывшим по ранению прапорщике» содержит кемеровское издание 1986 года с таким мирным заголовком - «Такие женщины в сибирской стороне: книга очерков о наших современницах»: «Мы беседуем с приемной дочерью О. П. Суховой — Антониной Федоровной Карасевой, которую Ольга Прокопьевна взяла на воспитание грудным ребенком еще в 1927 году... Она родилась в 1892 году в бедной казачьей семье на хуторе Безымянский Дон (нынешняя Волгоградская область). Ей было пять лет, когда отца Прокопия Тихоновича Ястребова — человека, не угодившего властям, сослали в Сибирь. Так и остались здесь Ястребовы. Пришлось подросшей Ольге и в горничных и в помощницах у барского повара-француза послужить. С того и стало кулинарное дело впоследствии ее профессией. В декабре 1914 года, после недолгого знакомства Ольги Ястребовой с прибывшим по ранению прапорщиком Петром Суховым, состоялась их свадьба. Сухов, еще в гимназические годы увлекшийся политической литературой и исключенный за это из гимназии, теперь был уже партийцем-большевиком. Работая на Ашанинских угольных копях под Челябинском, он вел нелегальную работу. Пока Ольга об этом ничего не знала. К мужу порой заходили его знакомые, засиживались в вечерних беседах, чаще всего о войне. Да и кто тогда не говорил о войне! Иногда и сам Сухов по вечерам уходил, говорил — нужно по работе, а приходил перед рассветом. Вот с этим жена смириться не могла, несколько раз учиняла проверку и убедилась: на работе Сухова не было. Захлестнула волна ревности... Ольга Прокопьевна с улыбкой вспоминала об этом: «Тогда и состоялся первый семейный урок политграмоты. Петр, предупредив меня о молчании, сказал, что еще до войны он стал партийцем, на фронте вел работу среди солдат. И теперь занят тем же. «Мы за то, — говорил он, — чтобы добиться прекращения гнусной войны и свергнуть царя, чтоб люди не мучились и всем стало жить лучше. И нам с тобой тоже»...» (см. на стр. 136 и 137 ук. изд.).
Переулок Колядо
У многих участников гражданской войны их самые известные (и порой единственные оставшиеся) фотографии - это фотографии времен службы в русской императорской армии в годы Первой Мировой войны. Вот и самое часто публикуемое фото Федора Колядо тоже подтверждает это. Федор Ефимович (1898-1919) - из семьи переселенцев на Алтай, родился в «селе Екатериновка области Войска Донского» (см., напирмер, в издании Ю.Ф. Кирюшина «Памятники истории и культуры Северо-Западного Алтая», 1990). Но сейчас село Екатериновка - в Ейском районе Краснодарского края, т.е. ранее - в Кубанской области Российской Империи, и получается, что Федор Ефимович - представитель не донского, а кубанского казачества. В 1916 году Федор Колядо был призван в армию, служил в Новониколаевске, Мариинске, Иркутске. В 1918 году в составе красногвардейского отряда оборонял Барнаул. Потом в партизанской армии Мамонтова возглавил полк «Красных орлов» Федор Ефимович погиб в бою у партизанской «столицы» Солоновки 15 ноября 1919 года.
Переулок Колядо появился на карте Барнаула сравнительно недавно - согласно Протокола № 20 исполкома Барнаульского горсовета от 27 июня 1963 года «О переименовании улиц и упорядочении нумерации домов в городе»: «Учитывая многочисленные пожелания предприятий, организаций и трудящихся города, в целях улучшения обслуживания населения почтово-телеграфной связью, такси и другими бытовыми предприятиями, исполком городского Совета депутатов трудящихся решил: Переименовать улицы, переулки, проезды с одинаковыми и ли сходными наименованиями, в том числе: пер. Косой Взвоз - в пер. им. Ф. Колядо» (Ф. 312, оп. 7, д. 11, л. 226-228).
Старший унтер-офицер возглавил милицию
Андрей Степанович Степанов - десятый из участников Первой Мировой войны, имеющих именную улицу или переулок в Барнауле. Вот что сообщает о нем сайт Управления Внутренних дел по Алтайскому краю: «Родился в 1873 году в крестьянской семье. Окончил два класса городского училища. В царской армии во время мировой войны служил старшим унтер-офицером. После Октябрьской революции с октября 1918 года Андрей Степанович начинает работать в уголовном розыске. После разгрома Колчака СТЕПАНОВА направляют на службу помощником начальника Омского губрозыска. В октябре 1921 года Андрея Степановича утверждают на должность начальника Алтайского губернского угрозыска. Некоторое время перед этим назначением СТЕПАНОВ работал в уголовном розыске г. Бийска. Прирожденный лидер и организатор, Андрей Степанович отлично знал свое дело. С его приходом работа угрозыска активизируется. Уголовный мир почувствовал это быстро. Организованная преступность уже не была уверена в своей безопасности, и начала делать попытки «договориться» с новым начальником. Ответом были все новые и новые аресты воров и бандитов. 6 марта 1922 года во время ликвидации самой кровожадной и многочисленной банды Пименова группа оперативных работников возглавляемая СТЕПАНОВЫМ попала в организованную засаду. В ожесточенной перестрелке с бандитами на углу 4-го Прутского переулка и 3-й Алтайской улицы А.С. СТЕПАНОВ и агент Ф. СЕРГЕЕВ погибли. В честь А.С. СТЕПАНОВА решением Барнаульского горисполкома названа одна из городских улиц. В музее краевого УВД хранятся его фотография и партийный билет. При открытии в июле 1970 года Мемориальной доски в здании ГУВД имя СТЕПАНОВА было занесено на нее вместе с именами других погибших милиционеров. Под этими именами всегда неувядающие живые цветы, и ни одно поколение молодых сотрудников приняло под ними Присягу».
Странно, что при наличии этого текста и фотографии («в музее краевого УВД») биография Степанова не были включена в издание ГУВД по Алтайскому краю «Служба Отечеству: Имена и даты», 2007.
Улица Степанова в Барнауле находится в Октябрьском районе - от проезда Тальменского до улицы Лесокирзаводской.
Улицы Гущина и Бабуркина
Биографии этих двух участников Первой Мировой войны связаны с историей милиции Алтая. Биографические справки на них есть в сборнике краю «Служба Отечеству: Имена и даты» (Барнаул, 2007).
Петр Ильич Гущин родился в белорусском Гродно в 1892 году. В Русской императорской армии служил с 1913 года. Участвовал в Первой Мировой войне, потом гражданская война привела его на Алтай, где он и остался жить после демобилизации. Во время Великой Отечественной войны при острой нехватке кадров был уже немолодым человеком принят в милицию - в марте 1942 года стал милиционером 3-го отделения (на улице Крупской). В ночь на 3 сентября 1944 старый солдат погиб, когда вступил в неравную схватку с тремя вооруженными преступниками из знаменитой банды «Черная кошка». Но по выстрелам среагировала оперативная группа, которая смогла нейтрализовать преступников.
Решение о переименовании бывшей улицы Цветочной в улицу Гущина исполком Барнаульского горсовета принял 29 октября 1963 года.
Семен Андреевич Бабуркин родился в 1890 году в Казанской губернии, с 1909 года семья жила на Алтае, в Причумышье. Бабуркина призвали в армию в годы Первой Мировой войны. В 1917 году он вернулся домой. После свержения Советской власти в Алтайской губернии летом 1918 года Бабуркин стал партизаном в одном из отрядов Григория Рогова. Личная трагедия ожесточила этого человека: была изнасилована колчаковцами молодая жена Семена Андреевича и зарублен у крыльца собственного дома его брат. После окончания гражданской войны на Алтае Бабуркин продолжал долгое время возглавлять отряды по борьбе с контрреволюционерами, в том числе и в Горном Алтае. Потом возглавил окружную милицию. В 1935 году по состоянию здоровья переехал в село Петрвку Троицкого района, возглавлял там колхоз. Умер в 1954 году.
Решением Барнаульского горсовета от 3 августа 1987 года улица Буровая в Индустриальном районе переименована в улицу Бабуркина.
Автор легендарной песни
Двенадцатый из участников Первой Мировой войны, имеющих именную улицу или переулок в Барнауле, - Петр Семенович Парфенов-Алтайский (1894-1937). Он как и Семен Бабуркин «получил» свою именную улицу в Октябрьском районе Барнаула только в 1987 году: «...в честь празднования 50-летия Алтайского края и в связи с предстоящей переписью населения». Этому человеку, которого иногда коротко называют мало сочетаемыми характеристиками («поэт и историк»), журналисты и краеведы не только на Алтае значительно «поправили» не только биографию - это можно понять даже по четырем известным изображениям Петра Семеновича: на них совершенно разные лица. Автору текста песни «По долинам и по взгорьям...» не повезло - его авторство было признано официально спустя много лет после смерти. Юрий Иванович Гончаров (Барнаул) опубликовал вот такое письмо поручика Парфенова:
«Председателю земского собрания
Прошу дать мне слово для внеочередного заявления или сами огласите прилагаемое открытое письмо земскому собранию.
На вчерашнем заседании (6 июля 1918 - Ю.Г.) я был исключен из состава гласных губернского земства, за то, что де работал в Советском отделе по народному образованию с 4 по 23 апреля (1918 - Ю.Г.). Но вынося такое постановление, земское собрание одновременно умолчало о необходимости исключить меня из рядов войск Сиб.Вр.Прав. С одной стороны, стало быть, действия и мои убеждения, собрание признает опасными для существующего государственного строя, с другой стороны же , мне оставляют благородную роль с оружием в руках, в борьбе защищать этот государственный строй. Какая издевка над убеждениями, какое насилие над личностью и правом... Так не поступало со мной даже правительство Николая II, уволив меня в декабре месяце 1914 г. из военного училища за политическую неблагонадежность, меня оставили на свободе, хотя и под надзором полиции и, только потом, послали рядовым на фронт. Но то было правительство царизма и насилия. Так не поступали со мной и большевики. С позором исключая меня из отдела по народному образованию с клеймом изменника и чуть ли не провокатора, они оставили меня на свободе и даже за отказ защищать Советскую власть - не предали меня военному суду, не расстреляли, а только арестовали. Но то было правительство фанатиков, несознательных и часто невежественных рабочих и крестьян в серых шинелях. А теперь... Теперь очередное насилие надо мной творится собранием, которое в телеграмме Вр. Сиб. Пр-ву, отметило необходимость свободы слова и свободы убеждений, необходимость прекращения политической мести. Как жаль, что эти слова оказываются только на бумаге, на самом деле собрание отступило от принципов, изложенных в телеграмме. Оно вступило не только на путь политической мести, но и насилия. Ввиду этого, я протестую против вчерашнего постановления относительно меня и обращаюсь к собранию с покорнейшей просьбой, быть последовательным и не отказать в предложении военному министру Сибири исключить меня и из рядов войска Вр. Прав., или же отменить свое постановление, восстановить меня в моих гражданских правах, чтобы я мог быть не только механическим исполнителем приказаний на военной службе, но и полноправным членом общества, земства, народа. Не творите насилия, не идите путем ваших врагов.
7 июля 1918 г. поручик Парфенов».
В январе 1915 года Парфенов пошел добровольцем на фронт - рядовым. В боях получил Георгиевский крест 4-й степени. После ранения в сентябре 1915 года Парфенов был отправлен во 2-ю Московскую школу прапорщиков. Окончил ее в феврале 1916 года, был оставлен помощником курсового офицера, затем переведен в 186-й запасной стрелковый полк, затем отправлен на Румынский фронт. За год прошел путь от прапорщика до поручика (за боевые отличия). По последнему ранению в 1917 году получил двухмесячный отпуск и приехал к родителям на Алтай, стал офицером 24-го Сибирского запасного стрелкового полка. В октябре 1917 года был от Славгородского уезда делегатом II Всероссийского съезда Советов, провозгласившего Советскую власть (в списках делегатов записан как «меньшевик-интернационалист»). 22 октября 1918 года военно-полевым судом 3-го Барнаульского Сибирского стрелкового полка Парфенов был приговорен к расстрелу. Спасен офицером-поэтом Ревердатто. 18 ноября 1918 года Парфенов был сначала посажен в эшелон 3-го Барнаульского полка, но смог все таки остаться в Барнауле, а то мог бы и не доехать живым дальше Чесноковки...
Чему теперь стоит больше удивляться: что такого борца за власть Советов расстреляли в год 20-летия этой власти, или тому, что в его память назвали улицу в год 70-летия той же Советской власти?
Переулок командира дивизии
Список барнаульских улиц и переулков, названных в честь воевавших и служивших в годы Первой Мировой войны, был бы неполным, если не вспомнить и Добротинский переулок. Решением Барнаульского горсовета от 14 апреля 1927 года бывший «1-й Непроходной или Добротинский переулок» был переименован в Трудовой.
1-й Непроходной переулок стал называться Добротинским в честь командира 12-го Барнаульского полка Сергея Федоровича Добротин. На Первой Мировой войне генрал Добротин был командиром дивизии и корпуса, заслужил орден Св. Георгия 3-й степени и Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами, а также французский орден Почетного легиона. Примечательно, что именно в его 44-й пехотной дивизии началось формирование будущего Чехословацкого корпуса, чьи легионеры оставили по себе в Сибири своеобразной памятью ту печальную песню («про отца природного пахаря»): 44-й дивизии была придана в качестве разведчиков 1-я рота Чешской добровольческой дружины. Под командованием Добротина служили многие известные впоследствии офицеры Чехословацкого корпуса, в частности, генерал Чечек. Добротин весьма импонировал чехам своим поведением и теплым отношением. Между собой чехи называли его «Отец Жижка», поскольку генерал с русско-японской войны имел только один глаз, как и знаменитый герой Гуситских войн.
В честь бывшего фронтового врача
И еще одна улица Барнаула называлась недолгое время в честь участника Первой Мировой войны.
Бывший барнаульский раввин Исроэль Каменецкий в 2008 году вспоминал со страниц «Российской газеты»: «После окончания Первой мировой войны в Барнаул попал доктор Лазарь Ваксман. В 1918 году его направили на Алтай для борьбы с эпидемией тифа. На Алтае он создал кожно-венерологи¬ческую службу. Его именем была названа улица, сегодня Мало-Тобольская».
Но, конечно, улица называлась Мало-Тобольской не только «сегодня», но и намного раньше. Есть и такая версия биографии от правнучки Лазаря Вильгельмовича Ваксмана - с легендой о его наградном оружии: «...Сразу после окончания Томского университета в 1914 году он попал на фронт. Я знала, что у него были какие-то награды за службу на фронте, но их спрятали в 1917 году. Жена побывала у него на передовой под Белостоком в апреле или в мае 1915 года, поехала туда специально, чтобы показать отцу его годовалую дочку, мою бабушку, родившуюся, когда он уже был на войне. Добиралась она тогда совершенно фантастическими путями до передовой аж из Томска! На фотографии, присланной с фронта в 1916 году, мой прадед в офицерском мундире, на боку - очень красивая шпага. Лишь во времена Горбачева я случайно встретила статью о царских наградах России, сравнила фотографии в каком-то военном журнале и сразу узнала его: это золотое оружие, которым прадед был награжден царем за храбрость при спасении раненых солдат. Он сам ничего особенного об этой награде никому не рассказывал. А наградное оружие при большевиках закопали в огороде, потому что за него могли запросто расстрелять - награда от самого царя! После возвращения с фронта прадед кратко и очень скупо рассказывал жене, что попал в Польше под одну из первых немецких газовых атак, это было сразу же после газовой атаки немцев у Ипра, но их гарнизон выжил и еще отбросил немцев назад, что тогда еще не было противогазов и медики из его лазарета быстро сообразили и скомандовали: снимать гимнастерки, заливать их водой, или мочой и плотно завязывать лицо. Приходилось оперировать раненых прямо в таком газовом облаке. С того дня прадед стал очень тяжело болеть, мучила одышка, перенес несколько инфарктов совсем молодым человеком, но несмотря на это, много работал, оперировал и лечил больных днем и ночью, никогда не отказывал в помощи. Сначала служил хирургом, потом главным врачом созданной его руками больницы в Барнауле, сидел в 37-м как все, но из тюрьмы вышел и вскоре умер. Это произошло в марте 1945 году - прямо на работе, от пятого по счету инфаркта на 53-м году жизни» - http://www.diletant.ru/articles/66641/?sort=show_counter
(Разумеется, при всех заслугах фронтовых врачей и речи быть не могло, чтобы их когда-нибудь награждали как за боевые отличия - этого в отношении медиков никогда не было в военной истории России).
«Решение № 24 исполкома Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 15 января 1945 года - Об организации похорон старейшего врача Лазаря Вильгельмовича Ваксмана и увековечения его памяти
В связи со смертью старейшего врача тов. Л.В. Ваксмана, отдавшего 28 лет своей жизни здравоохранению трудящихся Алтайского края, исполком крайсовета решил:
Поручить Барнаульскому горисполкому... в честь увековечения памяти врача Л.В. Ваксмана, проработавшего 28 лет в лечебно-профилактических учреждениях города Барнаула, переименовать одну из улиц города в улицу имени Л.В. Ваксмана.
Улица М. Тобольская переименована в ул. Л.В. Ваксмана (ФР. 312, оп. 1а, д. 102, л. 24).
Протокол № 29 исполкома Барнаульского горсовета от 25 октября 1952 года - О восстановлении названия улицы М. Тобольской
В связи с затруднениями о переоформлении инвентаризационной и другой документации по домовладениям, находящимся по ул. М. Тобольской (ныне ул. Ваксмана), исполком городского Совета депутатов трудящихся решил:
1. Восстановить старое название улицы - М. Тобольской.
2. Решение исполкома городского Совета от 15 января 1945 г. считать утратившим силу (ФР. 312, оп. 5, д. 23, л. 73-75).
В Томске
В Томске тоже есть две улицы, названные в честь барнаульцев - участников Первой мировой войны. Это профессор-геолог Феликс Николаевич Шахов и его коллега Михаил Иванович Кучин.
Феликс Николаевич родился в селе Белоярское Барнаульского уезда. Происходил из крестьян (по другим данным – сын сибирского казака и народной учительницы). В 1911 году окончил Барнаульское реальное училище. Поступил в Томский технологический институт на горный факультет. Продолжил учебу в 1-м Российском Петербургском горном институте, где проучился два года. С началом Первой Мировой войны вернулся в Томск, на химический факультет ТТИ. Вскоре был призван в армию и направлен в Иркутское военное училище, по окончании которого в 1916 году отправлен на фронт. Служил младшим офицером и начальником саперной команды в составе 73-го, а затем 46-го Сибирского стрелкового полка на Юго-западном фронте, участвовал в Брусиловском прорыве. Подпоручик. Награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами. Осенью 1916 года после заболевания крупозным воспалением легких эвакуировался в тыл. Возвратился в ТТИ для завершения высшего образования на химическом и горном отделениях. С перерывом из-зза службы в гражданскую войну ТТИ он окончил его в 1922 году, оставлен ассистентом на горно-геологическом факультете. С 1935 года профессор. В 1931 году организовал и возглавил кафедру рудных месторождений, которую возглавлял до 1956 года. Занимал должность декана геолого-разведочного факультета. С 1944 года одновременно с работой в Томском политехническом институте работал в Западно-Сибирском филиале АН СССР. Награжден орденами Ленина (1944), Трудового Красного Знамени (1946, 1967). 25 апреля 1949 года был арестован в Томске по т.н. «красноярскому делу» (якобы за умышленное занижение значимости месторождений и «саботаж» в проведении геолого-поисковых работ). Постановлением ОСО при МГБ СССР от 28 октября 1950 года осужден на 15 лет лагерей. Отбывал заключение на Колыме. В 1951-54 годах в качестве расконвоированного заключенного работал в научно-методическом отделе Северо-Восточного геологического управления (Магадан). В 1954 году реабилитирован, снова работал в ТПИ, с 1957 года – в институте геологии Западно-Сибирского филиала АН СССР. Член-корреспондент АН СССР (1958). Умер в 1971 году, похоронен в Новосибирске. В 1989 году на геологическом факультете Томского политехнического института открыта мемориальная доска, посвященная Шахову
Михаил Иванович Кучин родился в 1887 году в Кургане Тобольской губернии. Из крестьян. В 1907 году окончил Барнаульское реальное училище и поступил на горный факультет Томского технологического института (ТПУ). Во время учебы в ТТИ Кучин работал коллектором в Кулундинской партии, занимавшейся гидрогеологическими исследованиями в районе Павлодара. Был членом Барнаульской и Томской объединенной организации РСДРП меньшевиков (1906-1909 годы), подвергался аресту. В 1909 году уехал из Томска. С августа 1909 по август 1915 года работал гидротехником Енисейского переселенческого управления, принимал участие в работах по водоснабжению станции Тайшет и производству разведочного бурения на участках с вечной мерзлотой. С октября 1915 по март 1916 годы – студент ТТИ, в апреле был призван в армию. Служил на Кавказской дороге, затем был переведен рядовым в саперный батальон, расквартированный в Петрограде.
В январе 1917 года был направлен на учебу в школу прапорщиков инженерных войск. Во время февральской революции был начальником караула Таврического дворца. В августе 1917 года был направлен на Румынский фронт в дорожно-мостовую роту инженерного полка, где избирался в армейский ревком и принимал участие в установлении Советской власти на фронте. Окончил войну в чине подпоручика. Будучи меньшевиком, во время гражданской войны Михаил Иванович служил начальником отделения в министерстве труда Временного Сибирского правительства и затем Всероссийского Правительства адмирала Колчака. Но позже перешел на профсоюзную работу: с конца 1919 года и в 1920 году был секретарем-инструктором Иркутской районной больничной кассы Губпрофсовета.
Кучин кончил ТТИ в 1924 году, получив звание горного инженера. По приглашению М.А. Усова был оставлен научным сотрудником при кафедре. С января 1930 года – заведующий специальностью «Инженерная геология», с ноября 1931 года – и.о. профессора, заведующего кафедрой гидрологии, с октября 1932 года – заведующий гидрогеологической специальностью в Сибири, затем в горном институте. После слияния отраслевых вузов в ТИИ (1934) до марта 1938 года – заведующий кафедрой геологии. В ТГУ перешел на постоянную работу в 1939 году. С апреля 1939 года – и.о. профессора по кафедре динамической геологии географического факультета ТГУ. С ноября 1939 года – заведующий кафедрой грунтоведения и гидрогеологии. 30 августа 1941 года был утвержден в ученой степени доктора геолого-минералогических наук без защиты диссертации, в ученом звании профессора по кафедре грунтоведения и гидрогеологии. По совместительству с марта 1946 года – заведующий кафедрой геологии и механики грунтов Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта, организованной по его инициативе. В 1929-1934 годы – начальник отдела гидрогеологии Западно-Сибирского геологического управления. Во время Великой Отечественной войны консультировал Томский горисполком по вопросам водоснабжения заводов города.
20 апреля 1949 года Кучин был арестован и осужден ОСО МГБ. Находился в лагерях до 17 апреля 1954 года. 31 марта 1954 года Военной коллегией Верховного суда СССР его дело было пересмотрено и прекращено за недоказанностью обвинения. С 5 мая 1954 года был восстановлен в должности профессора ТГУ, работал в ТИСИ (ныне – ТГАСУ), заведующий кафедрой инженерной геологии, оснований и фундаментов.
В развитии Алтайского края вклад Кучина значителен. Его изыскания сырьевых ресурсов солей Кулундинских озер, соды на Алтае способствовали развитию химической промышленности Сибири. В частности, им были открыты громадные запасы соды в озере Танатар. В годы Великой Отечественной войны на базе этого месторождения в Михайловском районе Алтайского края были построены заводы для содового производства и проложен железнодорожный подъездной путь в 150 км к месторождению. Им были выявлены обширные артезианские бассейны (Барнаульский, Обь-Иртышский), радиоактивные термы Белокурихи и даны исходные данные для их освоения. Михаил Иванович составил гидрогеологический очерк курорта «Лебяжье» и решил тем проблему снабжения курорта питьевой водой.
Два литератора – как два медведя в одном вагоне санитарного эшелона!
Помимо одиннадцати улиц Барнаула, названных в разное время именами жителей Алтая - участников Первой Мировой войны - в краевом центре есть и улицы других участников этой войны, которые никогда не были на Алтае. Например, улицы Конева, Щетинкина и Фурманова, площадь Жукова. Улица Фурманова появилась в Барнауле в 1958 году. «Мелкобуржуазный пацифист санитар Дмитрий Фурманов, отправляющийся в 1914 г. на фронт, и мелкобуржуазный пацифист Дмитрий Фурманов, покидающий фронт в 1916 г., - это два разных человека», - сообщается на стр. 11 в издании Анатолия Дмитриевича Камегулова «Художественный путь Фурманова», Гос. изд-во худож. лит-ры, Ленинградское отд-ние, 1934. В том же издании на стр. 36: «Фурманов — мелкобуржуазный пацифист, под влиянием практики войны становящийся к 1916 г. попутчиком пролетарского интернационализма. Этим и объясняется содержание многих записей «Дневников», в которых автор, не умея вскрыть классовую сущность событий, обнаруживает перед ними растерянность и отчаяние, в лучшем случае — мелкобуржуазное возмущение». «В предисловии к дневникам 1914-1916 гг. Анна Фурманова рассказывает, какой крупный скандал был у Фурманова, когда он служил в царской армии, с Георгием Гребенщиковым (возглавлявшим 28-й Сибирский санитарный отряд), по поводу привычки записывать свои наблюдения. Отношения с Гребенщиковым сначала были у Фурманова хорошие, но потом Фурманов стал обрывать Гребенщикова за грубое обращение с солдатами...
- Чтобы не было этого, слышите, — иначе вон, вон из моего отряда. Мне доносчиков не надо, студентишко, недоучка. Фурманов спокойно продолжал писать, вывел из терпения Гребенщикова, и через несколько дней Фурманова в отряде уже не было», - на стр. 47 в издании Камегулова «Художественный путь Фурманова».
Бывшие защитники российской Варшавы основали Варшаву алтайскую
В Польше заинтересовались недавно происхождением поселка Варшава, который находится на территории Змеиногорского района. Об этом сообщила газета «Змеиногорский вестник». Из университета польской Варшавы пришло обращение руководителя проекта «Из Варшавы в Варшаву», где говорится, что участники проекта стараются узнавать историю «других Варшав», которые встречаются в неожиданных местах по всему миру.
В 2002 году «Змеиногорский вестник» уже публиковал очерк Александра Рыбкина - учителя географии, биологии и химии Октябрьской средней школы Змеиногорского района. Александр Семенович рассказал тогда: «...В 1921 году выходит указ о том, что те крестьяне. Которые выезжают для основания новых поселков, освобождаются от натурального налога. Это послужило главным толчком в деле основания новых поселков. Группа ходоков с. Таловка обратилось в ОКРЗУ (Окружное земельное управление) с просьбой разрешить заселение на берега р. Поперечной. Разрешение было получено зимой 1921 года. В начале лета 1922 года крестьяне с. Таловка: братья Стукаловы Андрей, Дмитрий, Илья, братья Афанасьевы, Корневы прибыли на берега речки Поперечной основывать новый поселок. По обоим берегам провели конным плугом борозды, бросили жребий, кому на каком берегу селиться и сразу же приступили к строительству землянок. Лето и зиму жили в землянках, а затем постепенно стали перевозить деревянные дома из Таловки.
Над названием села долго ломали голову: «Как назвать?». Сначала решили назвать «Полыновкой», так как в северной части поселка произрастало много полыни. Позднее прибывшие на поселение и воевавшие в 1-ю Мировую войну на западном фронте и слышавшие название столицы государства Польши решили дать название своему поселку — Варшава. Так в 1922 году появился новый поселок на берегах речки Поперечной с громким названием «Варшава».

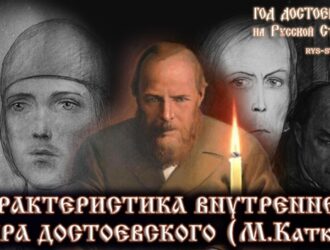

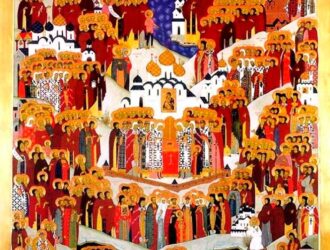
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.