ЗАЧЕМ НАМ ИДЕОЛОГИЯ?
Иван Ильин
 «Нет, мы, писатели белого лагеря, не уговариваем ни себя, ни других; если бы это было так, то все дело было бы уже проиграно и кончено; и нам оставалось бы только вслед за историей дочитать отжившую страницу и попытаться постигнуть причины нашей общей неудачи… Но на самом деле эта страница далеко еще не отжита историей и не прочитана нами, – и борьба продолжается!» – вот что я думал и что хотел сказать, когда с месяц тому назад про- чел в «Возрождении», в описании беседы на одном белом вечере, полувопрос-полумнение одного из участников о наших статьях.
«Нет, мы, писатели белого лагеря, не уговариваем ни себя, ни других; если бы это было так, то все дело было бы уже проиграно и кончено; и нам оставалось бы только вслед за историей дочитать отжившую страницу и попытаться постигнуть причины нашей общей неудачи… Но на самом деле эта страница далеко еще не отжита историей и не прочитана нами, – и борьба продолжается!» – вот что я думал и что хотел сказать, когда с месяц тому назад про- чел в «Возрождении», в описании беседы на одном белом вечере, полувопрос-полумнение одного из участников о наших статьях.
Нет, мы не уговариваем ни себя, ни вас. Уговаривать надо колеблющихся; а мы обращаемся прежде всего к вам, не колеблющимся. И сами мы не колеблемся, и вот уже восемь лет свидетельствуем об этом не только словом, но и делом.
Но что же заставляет нас тогда твердить «известное» и «понятное» или, по крайней мере, кажущееся таковым? Что же мы делаем, настаивая в наших статьях на том, что иному кажется давно уже усвоенной «азбукой» патриотизма и государственности? Нужно ли это? И зачем это нужно?
Tеперь уже всем и даже самым недальновидным ясно, что мы переживаем эпоху великого идейного кризиса; и не мы, русские, только, а и все «культурное» человечество. Это есть прежде всего кризис духовно-религиозный, а потом в глубокой связи с этим кризис нравственности, государственности, искусства и экономики. Какие-то, долго истончавшиеся нити и ослабевавшие скрепы – в наши дни порвались, и весь духовный строй и уклад современного человечества грозит разложиться сверху донизу. И вот, первое, что нам всем необходимо: увидеть и признать это; второе – исследовать природу этого кризиса, его основы и причины; третье – искать выхода и обновления.
Современный мир переживает духовную смуту. Но гнездо этой смуты водворилось на нашей родине: там сейчас ее дно, ее очаг, ее рассадник. Почему же именно на нашей родине? Как могло это совершиться? Чего именно недоставало ей и нам? Есть ли для нас исход и спасение? И в чем именно? – В этом наша проблема, особая, отдельная от других народов и всего человечества…
Весь этот кризис глубок; природа его сложна и утонченна; и совсем не проста и не общепонятна. И если кому- нибудь здесь видится «простота» и «общепонятность», то пусть он разочаруется и пусть уверится в том, что это ему только кажется…
Не ставя перед собою самых глубоких и сложных проблем, пусть он попытается ответить ясно и убедительно хотя бы на такие более легкие и поверхностные вопросы: в чем неправы и почему – те доктринеры (я разумею, конечно, честных теоретиков), которые отстаивают «полную свободу», «полное равенство», «социализм», «интернационализм», «революционность», «демократию»? Но только пусть он не думает отделаться от этих вопросов дешевым и слепым отрицанием, например, «это то, чем прикрываются демагоги», или «просто это все ложь и обман», или «тут нечего разговаривать, надо прямо вешать» и т. д.
Нет, это то, что надо переболеть опытом и мыслью, продумать, понять, вскрыть и отвергнуть все ложное и пошлое; но если окажется хоть сколько-нибудь верного и здорового, – то удержать и усвоить. Этим я не предрешаю ни одного из вопросов, но настаиваю на их беспристрастном и углубленном рассмотрении. Пусть социализм есть заблуждение; но разве честные люди впадают в это заблуждение не в поисках справедливости? Пусть революционность есть извращение правосознания ; но разве обстоятельства не могут поставить честного человека перед необходимостью работать над политическим переворотом? Пусть равенство есть завистливая химера; но разве всякое неравенство справедливо и жизненно полезно? Пусть бремя свободы не по силам для многих людей; значит ли это, что человеческий дух не нуждается в свободе? Пусть современная демократия искажает здоровую государственность и создает расцвет пошлости; значит ли это, что между властью и народом должно существовать отчуждение и разобщение?
Можно, конечно, закрыть себе глаза на трудное и сложное, – и рубить с плеча; «вздор», «нет», «довольно», «долой», «вон», «упразднить». Чем ожесточеннее и необразованнее душа, тем легче она занимает такую неумную позицию. Но надо же понять, что голое отрицание не опровергает заблуждения и не отрезвляет увлеченного человека; что идейный нигилизм справа не многим умнее и состоятельнее левого нигилизма; что подавление и искоренение показуется лишь в крайности; что щедринский градоначальник, именовавшийся «Органчиком» («История одного города»), у коего головной механизм имел всего две пьесы: «рассорю» и «не потерплю», – годился только на то, чтобы загонять болезнь внутрь и готовить бессмысленный взрыв…
Нам предстоит бороться со злом не только силою, но, главное, идеею и ее зрелым проявлением – реформою. И победа будет одержана не тогда, когда одолеет наша сила, – это будет только началом; а когда верная идея приведет к верной реформе, а верная реформа привлечет сердца к верной идее!..
Кто из наших читателей и единомышленников владеет такою верною идеею, которая осветила бы и силу исторической России, и причину ее крушения, и основу ее обновленного возрождения? Если тут все «просто» и «известно», то в чем же дело, почему не открыть ее и не высказать? Но только пусть он проверит еще, не принимает ли он за идею – какой-нибудь тактический лозунг, или организационный прием, или требование элементарной морали, или какой-нибудь принцип формальной юриспруденции («легитимизм», «республика») и т. д.
A между тем, идея у нас есть. Именно идея. Именно у нас, у белых. Она не «дана», а добыта нами; добыта любовью и опытом, усилиями и страданиями добыта в борьбе, перед лицом смерти, и живет в каждом из нас, в глубине его чувства и воли; но живет в нераскрытом, как бы в нераспустившемся виде. Именно поэтому мы, белые, неохотно спорим друг с другом и быстро сговариваемся. Есть простые слова и символы, по которым мы тотчас же устанавливаем взаимное понимание, доверие и волевую солидарность. В белой душе есть как будто некая шахта и на дне ее некий светящийся клад, как бы частица непрестанно излучающегося радия; и по этим сверканиям, которых не подделаешь и не фальсифицируешь (ибо они – в высшем, религиозном смысле слова искренни), мы узнаем друг друга.
Но далеко не все наши знают и понимают, что в этом излучающем центре белой души и белого характера – заключена, завернута, скрыта та идея белого движения, которую надо извлечь, поднять и утвердить на общее осознание и признание. Пусть не думают люди «немыслительского» склада, что «извлекая» – мы что-то утеряем, «поднимая» – обессилим, «осознавая» – затемним или погасим. Все в глубине останется по-старому, – неумаленным, неутраченным и сильным; но приобретет сверх того – доступность для ума, ясность, достоверность, убедительность и цельность; станет постигнутым принципом, доказуемым основоположением, сознательным убеждением; станет правилом новой общественной организации, мерилом обновляющегося законодательства и порядка. Иными словами: добытая нами в живом опыте волевая верность и волевая сила станут идеею, но не отвлеченной выдумкой досужего ума, не условной «конструкцией», а идеею-силою, способом жизни, патриотическим деланием.
Поднять эту идею из глубины белого опыта – и возможно, и необходимо. Для этого, между прочим, нам дан срок эмиграции. Но работа эта только еще начата.
Вскрыть эту идею надо, во-первых, для нас самих; во- вторых, для наших детей и внуков; в-третьих, для самой нашей борьбы.
Итак, во-первых, для нас самих.
Для духовной силы – нужна душевная цельность. Для цельности необходимо единение чувства и разума, бессознательной любви и светящего сознания. Это соответствует и достоинству человека – мыслить то, что он чувствует; исповедовать чувствуемое и мыслимое; и делать то, что он исповедал. И во всем этом – судить себя, признавая свою возможную неправоту и утверждая свою правоту, выговаривая свою цель и доказывая ее верность.
Эта работа сознания над чувством проверяет жизнь души, очищает внутренние мотивы человека, устанавливает цель и смысл ведущейся борьбы; выстраданным опытом она осмысливает и освещает наше историческое прошлое и открывает вид в будущее, сообщая душе дальнозоркость. Наконец, она устанавливает верное соотношение между целью и средствами, не давая средствам заслонить, оттеснить или подменить цель, не позволяя ни «оправдывать дурные средства благою целью», ни безыдейно лепетать, что «в политической борьбе средства – все, а цели – ничего»…
Во-вторых, эта идейная работа необходима для нашего потомства и для России. Нашим детям и внукам мы повинны – воспитанием и отчетом. Будущее России зависит от того, на чем вырастут и в чем утвердятся молодые поколения. Что дадим мы им? Что завещаем? Безбожный ли, беспочвенный, беспредметный радикализм девятнадцатого века, умевший критиковать, болтать и бунтовать и не умевший ни государственно властвовать, ни сопротивляться злу силою, – или что другое? Здесь мало «чувств» и «настроений». Здесь необходима новая, верная установка души, обновленный духовный акт, – осознанный и идеологически развернутый в систему народного просвещения и национального воспитания…
Основное зерно «белого опыта» содержит все это. Но это должно быть извлечено из него и развернуто. И это не «просто», и не «общеизвестно», а сложно, трудно и ответственно.
Наконец, эта идейная работа необходима для нашей борьбы. Правда, эта борьба невозможна без силы и меча. Но одною силою победы не одержать и России не спасти. Необходима идейная борьба – честная критика, ясная, убедительная аргументация, доводящая ответ до полной отчетливости, до очевидности, вскрывающая все отрицательные итоги революционного психоза и все положительные итоги революционных страданий. Предстоит огромная идейная работа, к которой каждый из нас должен быть идейно вооружен. При этом я разумею совсем не только «сменовеховские», «законопослушнические», «евразийские» выдумки, извращения и соблазны на нашей периферии; нет, гораздо больше, труднее, ответственнее. Нам предстоит встретиться в России с массою интеллигенции – измученной, безвольной и потерявшей критерии; с городским рабочим, многое вынесшим, избалованным подачками и взятками, но мало осмыслившим; с массою крестьянства, отрезвевшего, поправевшего, но как всегда темного и младенчески беспомощного в мысли. Что мы скажем им всем? Как покажем неправоту революции – и правоту контрреволюции? Как дадим ей почувствовать верность нашей идеи через посредство порожденной этою идеею верной реформы? И при всем том эта ведущая, разъясняющая, строющая работа нуждается в сильном волевом заряде, которого хватило бы на несколько поколений…
Просто ли это все? Общеизвестно ли? Высказано ли? И если нет, если эта работа, добывающая догмат и канон белого движения еще не выполнена, то она должна быть поставлена в центр нашего внимания: надо научиться сердцем и волею внимать этой работе, чтобы проверять ее и волею, и сердцем, и деянием!
Мы, писатели белого лагеря, никого не «уговариваем», а выговариваем за себя и за наших единомышленников идею белого движения, нашей борьбы, нашей цели, наших средств. Мы работаем над самосознанием белого дела, выкоковывая его основы и его принципы, утверждая его правоту, слагая тот наш общий и совместный идейный алтарь, вокруг которого мы все чувствовали бы себя соединенными, несмотря на разбросанность в пространстве, и возле которого мы всегда могли бы обновить нашу убежденность и нашу силу.
Это дело только начато. Оно движется от поверхности вглубь, от простого к сложному. Tруднейшее еще впереди: нас ждет чистка авгиевых конюшен девятнадцатого века; нас ждет философическое углубление в первоосновы человеческого существа; нас ждет уразумение исторической России, ее духа и природы…
И если нашим друзьям и соратникам доселе все кажется ясным и приемлемым, то это свидетельствует лишь о том, что мы доселе верно истолковываем содержание нашего общего духовного опыта…
A остальное – впереди.
Ильин И. А. Собрание сочинений: Новая национальная Россия. Пуб- лицистика 1924–1952 гг. / Сост., вступ. статья Ю. Т. Лиси- цы; подготовка текста О. В. Лисицы; коммент. Ю. Т. Лисицы и А. Ю. Лисицы; художник Л. Ф. Шканов. М.: Институт Наследия, 2019. —сс.111 — 117

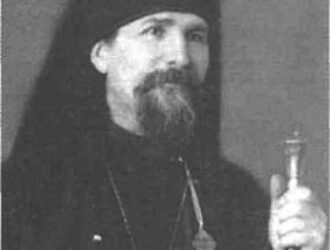


Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.