|
«Настало время исповедничества, и я хочу пострадать за Христа». Святитель Димитрий (Любимов).Русский хронограф.
|

Осенью 1927 года ситуация в Петрограде была раскалена до предела. Здесь с возмущением восприняли как Декларацию митрополита Сергия (Страгородского), провозглашавшую радости антихристовой власти радостями Христовой Церкви, так и его действия по перемещению неугодных иерархов, нарушающие церковные законы. В конце декабря в Москву отправилась представительная делегация петроградского духовенства и мирян, в которую вошли протоиерей Викторин Добронравов, имевший на руках письмо от имени духовенства, написанное протоиереем профессором Феодором Андреевым и профессором Михаилом Новосёловым, профессор Иван Андреевский, имевший на руках письмо от группы академиков и профессоров Академии Наук и высших учебных заведений, профессор Сергей Алексеев, представляющий широкие народные массы. Возглавлял делегацию архиепископ Димитрий (Любимов). Владыка Димитрий был одним из старейших иерархов Русской Церкви. Он родился 15 сентября 1857 г. в г. Ораниенбауме Санкт-Петербургской губернии в семье протоиерея Гавриила Марковича Любимова, настоятеля Пантелеймоновского храма. О. Гавриил начал свое служение с того, что открыл в собственной квартире уездное училище для детей, где сам преподавал. Затем им было построено отдельное училище, а также Богадельный дом, Дом трудолюбия и Ораниенбаумская больница. Протоиерей Любимов основал «Общество вспомоществования бедным», выплачивающее пособия беднякам и содержание бедным ученицам петербургских школ. Кроме того он основал три храма в окрестностях Ораниенбаума. Всего же при участии о. Гавриила было возведено 96 храмов. В освещении оных не раз принимал участие его сподвижник святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Многоплодно твое служение и для сколь многих благотворно, живительно и радостно! – говорил о. Иоанн на 50-летии служения протоиерея Любимова. – Вот тут у тебя под боком воздвигнутая тобою богодельня со многими призреваемыми, старыми и малыми, убогими и калеками, тут школа, а на обширном пространстве России сколько воздвигнуто тобою храмов в бедных селах для меньшей бедной братии, к которой ты вовремя успел прийти, движимый чувствами благочестия и сострадания!» До революции жители Ораниенбаума глубоко чтили память своего молитвенника и благодетеля. Одна из улиц город была названа в честь него Любимовской. Большевики обратили его сперва в Колхозную, а затем в Рубакинскую… О. Димитрий пошёл по стопам родителя. Более 30 лет он служил в большой приходской церкви Покрова Божией Матери, расположенной недалеко от Сенного рынка, в окрестностях которого жили бедняки и отбросы общества. При этом храме велась широкая благотворительная работа, содержались сиротские приюты, богадельня, школа, бесплатная столовая для бедных и т.д. Действующее при нём «Общество вспоможения бедным» возвело пятиэтажный дом, где разместились благотворительные учреждения общества. Дом этот под номером 104 сохранился доныне. А, вот, Покровский храм, некогда воспетый Пушкиным, в 30-е годы был закрыт, а затем снесён по решению Ленинградского совета под предлогом выправления трамвайных путей… После революции о. Димитрий овдовел и был пострижен в Московском Свято-Даниловом монастыре в иночество, пострижен с тем же именем, но с новым небесным покровителем. Вскоре он был возведен в сан архимандрита. Когда началась кампания по изъятию церковных ценностей, архимандрит Димитрий, боровшийся против обновленчества и отстаивавший свободу Церкви, был арестован и сослан на 3 года. Срок изгнания он первоначально отбывал в городе Уральске, а последние два года в туркестанском Теджене, где в это время находился в ссылке и святитель Андрей Уфимский, известный своей твердой антиобновленческой позицией. После казни митрополита Петроградского Вениамина последовал арест четырех его викарных епископов, город на целых 4 года остался без епископского надзора. Наконец, 12 января 1926 г., в епископа Гдовского, викария Петроградской епархии, был рукоположен архимандрит Димитрий. Без малого два года спустя во главе своих сподвижников он должен был отстаивать истинное Православие перед лицом заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия. Когда последний кончил читать привезенные ему письма, 70-летний старец епископ Димитрий упал перед ним на колени и со слезами воскликнул: — Владыко святый! Во время моей хиротонии вы сказали мне, чтобы я был верен Православной Церкви и, в случае необходимости, готов был и жизнь свою отдать за Христа. Вот и настало такое время исповедничества, и я хочу пострадать за Христа, а вы вашей декларацией вместо пути Голгофы предлагаете встать на путь сотрудничества с богоборческой властью, гонящей и хулящей Христа, предлагаете радоваться ее радостями и печалиться ее печалям… Властители наши стремятся уничтожить Церковь и радуются разрушению храмов, радуются успехам своей антирелигиозной пропаганды. Эта радость их — источник нашей печали. Вы предлагаете благодарить советское правительство за внимание к нуждам православного населения. В чем же это внимание выразилось? В убийстве сотен епископов, тысяч священников и миллионов верующих. В осквернении святынь, издевательствах над мощами, в разрушении огромного количества храмов и уничтожении всех монастырей… Уж лучше бы этого внимания не было! Но это митрополит Сергий ответил, что советское правительство преследовало духовенство только за политические преступления, а мешающие примирению Православной Церкви с правительством стремятся подчеркнуть контрреволюционный характер Церкви и, следовательно, являются контрреволюционерами. — Я лично, — ответил епископ Димитрий, — человек совершенно аполитичный. Я только скорблю и печалюсь, видя гонение на религию и Церковь. Нам, пастырям, запрещено говорить об этом, и мы молчим. Но на вопрос, имеется ли в СССР гонение на религию и Церковь, я не мог бы ответить иначе, чем утвердительно. Когда вам, Владыко, предлагали написать вашу декларацию, почему вы не ответили, подобно митрополиту Петру, что молчать вы можете, но говорить неправду не можете? — Вы хотите раскола? — грозно спросил митрополит Сергий. — Не забывайте, что грех раскола не смывается мученической кровью! Со мной согласно большинство! — Истина ведь не всегда там, где большинство, — заметил протоиерей Добронравов, — иначе не говорил бы Спаситель о “малом стаде”. И не всегда глава Церкви оказывается на стороне Истины. Достаточно вспомнить время Максима Исповедника. — Своей новой церковной политикой я спасаю Церковь! – заявил заместитель местоблюстителя. И услышал в ответ от будущего священномученика отца Викторина: — Церковь не нуждается в спасении, врата ада не одолеют ее. Вы сами, Владыко, нуждаетесь в спасении через Церковь. Много самых больных вопросов было поднято петроградской делегацией на той памятной встрече. Митрополит Сергий обещал, что подумает обо всем сказанном и даст через три дня краткий письменный ответ. Никакого ответа, однако, не последовало. В споре с исповедниками заместитель местоблюстителя ссылался на известное изречение апостола Павла: нет власти, аще не от Бога. На этой и ещё некоторых, вырванных из контекста, фразах была построена апология «новой церковной политики». В 30-х годах митрополит Литовский и Виленский Елевферий изложит её в двух своих книгах. Ответом на это лжеучение станет обстоятельная статья Ивана Александровича Ильина «О «богоустановленности» советской власти». Выдающийся русский философ докажет в ней всю ложность законнического, фарисейского толкования священных текстов, толкования, опирающееся на букву и отвергающее дух, толкования, следуя которому и самого антихриста можно принять, формально не отступая от догматов. «…слова апостола Павла «нет власти не от Бога» означают не разнуздание власти, а связание и ограничение её, — читаем у Ильина. — «Быть от Бога» значит быть призванным к служению Богу и нести это служение; это связывает и ограничивает саму власть. Это не значит, что власть свободна творить любые низости и мерзости, грехи и окаянства, и, что бы она не творила, — всё будет «исходить от Бога» и всё будет требовать от подданных, как бы гласом Божиим, совестного повиновения. Но это значит, что власть устанавливается Богом для делания добра и поборения зла; что она должна править именно так, а не иначе. И если она так правит, подданные обязаны повиноваться ей на совесть. Таким образом, призванность власти Богом — становится для неё мерилом и обязанностью, как бы судом пред лицом Божиим. А совестное, свободное повиновение подданных оказывается закрепленным, но и ограниченным этим законом постольку, поскольку живущий в сердцах подданных закон христианской свободы зовет их к лояльности или же возбраняет им эту лояльность. Если оказывается, что по нашей свободной и предметной христианской совести — власть сия есть сатанинская, то мы призваны осудить её, отказать ей в повиновении и повести против неё борьбу словом и делом». После безрезультатных переговоров епископ Гдовский Димитрий (Любимов) и епископ Нарвский Сергий (Дружинин) подписали акт отхода от митрополита Сергия, который был зачитан в кафедральном храме Воскресения Христова. Петроградское духовенство устами своих викариев объявляло, что впредь до созыва Собора, «сохраняя Апостольское преемство через Патриаршего Местоблюстителя Петра, митрополита Крутицкого, и имея благословение законного епархиального митрополита» они прекращают «каноническое общение с митрополитом Сергием и со всеми, кого он возглавляет». В ответ заместитель местоблюстителя вынес постановление о запрещении в священнослужении епископов Димитрия и Сергия. Прещения угрожали также всем священнослужителям, последовавшим за архиереями-исповедниками. Митрополит Петроградский Иосиф (Петровых), ранее незаконно смещённый с кафедры, вынес на доклад своих викариев следующую резолюцию: «Отмежевываясь от Митр. Сергия и его деяний, мы не отмежевываемся от нашего законного Первосвятителя Митр. Петра и, когда-нибудь, да имеющего собраться Собора оставшихся верными православных святителей. Да не поставит нам в вину тогда этот желанный Собор, единый наш правомощный судия, нашего дерзновения. Пусть он судит нас не как презрителей священных канонов отеческих, а только лишь как боязливых за их нарушение. Если бы мы даже заблуждались, то заблуждались честно, ревнуя о чистоте Православия в нынешнее лукавое время». Свою позицию Владыка Иосиф подробно разъяснил в письме архимандриту Льву (Егорову), в котором, в частности, говорилось: «Я отнюдь не раскольник, и зову не к расколу, а к очищению Церкви от сеющих истинный раскол и вызывающих его. Указание другому его заблуждений и неправоты не есть раскол, а попросту говоря — введение в оглобли разнуздавшегося коня. Отказ принять здравые упреки и указания есть действительно раскол и попрание истины. В строении Церковной жизни участники — не одни только верхушки, а все тело Церковное, и раскольник тот, кто присваивает себе права, превышающие его полномочия, и от имени Церкви дерзает говорить то, чего не разделяют остальные его собратия». В Петроград стали стекаться не принявшие «новой церковной политики» священники, монашествующие и миряне. Центром иосифлян стал храм Воскресения на Крови, который ещё прежде определялся чекистами, как центр «самого крайнего, реакционного направления среди духовенства «тихоновской» ориентации». Его настоятель протоиерей профессор Василий Верюжский сумел отстоять храм в напряжённой борьбе против пытавшихся захватить его сторонников митрополита Сергия. Киевлянка Валентина Яснопольская, духовная дочь новомученика Анатолия Жураковского, вспоминала: «Владыка служил в храме Воскресения на Крови. Там были дивные службы. Там и состав был замечательный – все потом стали мучениками. Я не решилась подойти к епископу в храме и отправилась к нему домой. Я сидела в столовой, где был накрыт стол. Вошёл владыка, высокий и величественный, с какой-то необычайной духовностью и кротостью во всём облике, и спросил какое у меня к нему дело. Я отвечала, что приехала из Киева, где декларация митрополита Сергия вызвала большую тревогу и недоумение. Киевские верующие, узнав, что в Петрограде есть епископ, открыто не принявший её, поручили мне узнать об этом подробнее. Владыка Димитрий рассказал мне, что в Церкви существует положение, по которому в чрезвычайных обстоятельствах епископ может объявить о своей независимости от вышестоящих церковных властей и отделиться от них, сохраняя за собой право совершать богослужения и таинства». К середине 30-х годов от митрополита Сергия отделилось более 50 епископов. Виднейшую роль в иосифлянском движении до самого своего ареста играл архиепископ Димитрий. К нему присоединялись клирики из разных епархий, включая Москву, Новгород, Воронеж, Донецк, Тверь и других. «В настоящее время есть только один архиерей, который говорит правду, что Советская власть преследует веру и церковь, — это Димитрий Гдовский», — заявил на собрании Тверского духовенства настоятель собора Христорождественского монастыря о. Александр Леваковский. На 8-м десятке лет владыке Димитрию пришлось взять на себя управление не только Петроградской епархией, но и многих других. Владыка Димитрий считал сергианство подлинной ересью. В своём послании пастве от 17 января 1928 г. он указывал, что митрополит Сергий «погрешил не только против канонического строя Церкви, но и догматически против её лица, похулив святость подвига её исповедников подозрением в нечистоте их христианских убеждений, смешанных, якобы, с политикой, соборность — своими и синодскими насильственными действиями, апостольство — подчинением Церкви мирским порядкам, и внутренним (при сохранении ложного единения) разрывом с Митр. Петром, не уполномочившим Митр. Сергия на его последние деяния». Между тем, митрополит Сергий своим постановлением от 25 января 1928 г. пригрозил предать владыку Димитрия и его сподвижников соборному суду, который сам, впрочем, не в состоянии был организовать, и признал таинства, совершаемые иерархами-исповедниками, недействительными. 29 ноября 1929 г. архиепископ Димитрий был арестован и заключён в одну из камер в доме предварительного заключения на Шпалерной. Ему были предъявлены обвинения в «активном участии в повстанчестве, террористических актах против совпартработников и представителей общественности, в организации массовых выступлений и эксцессов». Владыка был охарактеризован чекистами, как «человек старых взглядов и непримиримой настроенности в отношении советской современности и социальной революции, чтитель памяти покойного протоиерея Иоанна Сергиева Кронштадтского и его идеалов старой Руси – Православия и Самодержавия». Вместе с ним арестовали 46 священников и мирян, один из которых вспоминал: «10 апреля 1930 г. четверых из нас перевели в другую камеру № 21, где было 20 коек и от 80 до 100 заключенных. Здесь я встретил молодого священника Николая Прозорова, тут же был другой священник, отец Иоанн, а также отец Николай Загоровский, святой человек 75 лет, которого привезли из Харькова также в связи с декларацией митрополита Сергия. В это время архиепископ Димитрий также находился в той же тюрьме, в одиночной камере. Я один раз случайно увидел его, когда мы выносили очень тяжелый ящик с мусором. С нами был конвоир. Когда мы вышли в тюремный двор, владыка Димитрий возвращался со своей 10-минутной прогулки, тоже под конвоем. Был теплый июльский вечер. Я хорошо его видел. Он был высоким, крепким стариком, в рясе, с густой белой бородой, со слегка розовыми щеками и голубыми глазами. На нем в тюрьме не было панагии. Вот истинный исповедник нашей многострадальной Катакомбной Церкви!» 3 августа 1930 г. Коллегией ОГПУ владыка был приговорен по статье 58-10 и 11 УК РСФСР к высшей мере наказания, расстрелу, с заменой на 10 лет тюремного заключения. Двое его соузников, протоиереи Сергий Тихомиров и Николай Прозоров, были расстреляны. Прочие получили различные сроки концлагерей или ссылки. По объявлении приговора архиепископ Димитрий был отправлен в Ярославский политизолятор. Там, в одиночной камере, он был обречен на медленное умирание. Старческая немощь святителя не вынесла тяжести заключения. Священномученик Димитрий (Любимов) скончался в Ярославской тюрьме 17 мая 1935 г. в возрасте 78 лет. |
Последние новости
![Это не политика терпилы, а государственная русофобия]() 17.05.2025
17.05.2025
![Ответы «советскому Китежу» об атамане Краснове]() 17.05.2025
17.05.2025
![«Мы возвращаемся к истокам»: Сталин и Каганович ‒ «это наше всё»…]() 16.05.2025
16.05.2025
![Вальтер Ламе: Путь к миру]() 15.05.2025
15.05.2025
 17.05.2025
17.05.2025
Это не политика терпилы, а государственная русофобия
Это не политика терпилы, а государственная русофобия М.В. Назаров «Русская идея» Трудно уже написать что-то...
Далее 17.05.2025
17.05.2025
Ответы «советскому Китежу» об атамане Краснове
Ответы «советскому Китежу» об атамане Краснове Дмитрий Кузнецов Не успокоятся товарищи неосоветчики. Мало...
Далее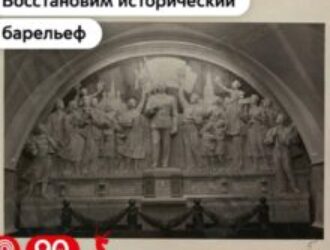 16.05.2025
16.05.2025
«Мы возвращаемся к истокам»: Сталин и Каганович ‒ «это наше всё»…
«Мы возвращаемся к истокам»: Сталин и Каганович ‒ «это наше всё»… Как пес возвращается на блевотину свою, так...
Далее 15.05.2025
15.05.2025
Вальтер Ламе: Путь к миру
Вальтер Ламе: Путь к миру Вальтер Ламе, будучи студентом юридического факультета, был призван в германскую...
Далее
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.