
Автор: Михаил Смолин
Николай Васильевич Болдырев был старшим сыном. Он родился в 1882 году и вначале, пойдя по стезе отца, поступил в кадетский корпус. Но в дальнейшем свою судьбу Николай Васильевич связал все же не с военной службой, а с научной и государственной деятельностью. Он оканчивает Императорский Санкт-Петербургский университет, после чего его оставляют при университете (с 1908 по 1912 год) для приготовления к профессорской и преподавательской деятельности со стипендией по юридическому факультету по кафедре государственного права. В 1909 и 1913 годах Николай Васильевич побывал в научных командировках за границей.
Будучи еще студентом, в 1905 году Н. В. Болдырев женился на Елизавете Васильевне Лавровой (1871—1942), дочери генерал-майора, командира лейб-гвардии Финляндского полка Василия Николаевича Лаврова (1837—1877), погибшего при штурме Плевны. Мистическим образом семьи Лавровых и Болдыревых кровно породнились еще задолго до этого брака. Отец Н.В. Болдырева во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов служил поручиком в лейб-гвардии Финляндском полку, которым командовал генерал-майор В.Н. Лавров, и в том же бою, в котором генерал был убит, В.К. Болдырев получил ранение.
Елизавета Васильевна была не чужда литературному кругу, писала популярные исторические очерки и издавала журнал «Детский отдых»; в молодости она была редкостной красавицей, и ее рисовал знаменитый Илья Репин.
В университете Николай Васильевич Болдырев учился у профессора Игнатия Александровича Ивановского и в 1912 году благополучно сдал экзамен на степень магистра государственного права. Он должен был стать (или рассчитывал стать) приват-доцентом по кафедре государственного права, но по каким-то обстоятельствам это место занял член Государственной Думы Павел Павлович Гронский. Хотя Николай Васильевич и получил звание приват-доцента (с 1 ноября 1912 года) по этой кафедре, но, видимо, профессор Иг.А. Ивановский не пожелал оставить его наследником на этой кафедре, поскольку в 1916 году Н.В. Болдырев числился приват-доцентом по кафедре энциклопедии права и истории философии права.
Параллельно преподаванию в университете Н.В. Болдырев служил по министерству земледелия и в 1916 году был правителем канцелярии технической организации для нужд действующей армии, а также состоял гласным Болховского уездного земства. В те же годы в различных журналах и научных сборниках публикуются его статьи по истории и философии права.
После революции жизнь Н.В. Болдырева «естественным» образом меняется: он вынужден покинуть университет и сотрудничать в других учебных учреждениях.
О жизни его после революции не известно практически ничего. По всей видимости, он жил при коммунистах «обычной» жизнью дворянина и ученого, со всеми ее страхами, невзгодами, голодом и болезнями, внешне «соблюдая стиль эпохи», как он выражался. Такая жизнь не замедлила сказаться на его здоровье. После тяжелой болезни 25 сентября 1929 года он умер, а на следующий день сотрудники советских органов безопасности пришли его арестовывать.
Надо отдать дань глубокого почтения смелости и пониманию важности трудов Николая Васильевича, которые проявили его жена и сын, Александр Николаевич (1909-1993) — известный филолог, заведовавший более тридцати лет кафедрой иранской филологии восточного факультета Ленинградского государственного университета. Они сохранили то немногое, что он успел написать. Вдова Александра Николаевича, Виринея Стефановна Гарбузова, передала нам сохраненные в семье рукописи трех неопубликованных работ Н.В. Болдырева — «Смысл истории и прогресс», «Правда большевицкой России. Голос из гроба» и «Феноменальный метод».
«Только сознание бесконечного требования к себе и может породить бесконечную энергию нравственного подвига. Увидеть бесконечность задачи и притом не отпрянуть в ужасе перед раскрывшейся пропастью, не закрыть глаза перед ней — и значит дорасти до нравственного делания, нравственно возмужать. Кант сказал: “Ты должен — значит, ты можешь”. И в самом деле, нужно с одинаковой силой утверждать и недействительность добра, и его действенность», — писал Н.В. Болдырев в 1922 году в 3-й главе своего труда «Смысл истории и прогресс».
Эти нравственные установки, закалившие духовные силы Николая Болдырева, и помогали ему творить в большевицкой России. Бесконечность нравственного подвига без надежды на окончательное торжество добра, но с одновременным утверждением действенности этого добра, и недостижимость идеала, к которому все же должно стремиться, — вот принципы, пронесенные мыслителем через всю свою жизнь.
Мужественный историзм и юношеские утопии (идеал и действительность)
Философия истории Н.В. Болдырева строится вокруг понятий «идеал» и «действительность». Идеал, лежащий в бесконечности, не может быть средством достижения чего-либо, в том числе и цели истории. Именно феномен идеала и является для Н.В. Болдырева самой сутью исторического: идеальность присутствует на всем протяжении исторической действительности. Недостижимый идеал задает направленность историческому пути и насыщает собой каждый момент исторического ряда, тем самым воплощаясь в направленном историческом ряду.
«Вневременность» идеала «есть не что иное, как связь времен». Стремиться к идеалу, смыкая прошедшее, настоящее и будущее, — значит, по Н.В. Болдыреву, «быть частичным носителем единого и всеохватывающего идеала истории». При этом прошедшее не умирает, а консервируется в настоящем; прошедшее не исчезает без следа, а сохраняется в целости для настоящего и для будущего в духовных кладовых науки (книгах, памяти людской, народных традициях, профессиональной и корпоративной этике и т. д.). Новое настоящее творится не из ничего, а из самой традиции, из прошлого; это не беспочвенно новое, а глубоко связанное с вековой традицией.
Идеал в исторической действительности, по Н.В. Болдыреву, — это чистая энергия, динамичность, сила, заставляющая двигаться в определенном направлении (у Л.А. Тихомирова то же самое называлось «жизнедеятельностью»).
«Идеальное начало в истории, — утверждает Н.В. Болдырев, — это, конечно, начало движения, волнения перемены. Но его страшная двигательная энергия благотворна, если она получает свои точки приложения, впрягается в огромную тяжесть и косность исторической данности. Никакой размах и никакой порыв не могут быть слишком великими перед огромностью исторической задачи; плохо только, если историческая динамика начинает крутиться смерчем и рассеиваться в пустоте; сила пара, не уловленная и не канализированная машиной, может бессмысленно взорвать паровой котел» (Смысл истории и прогресс. Гл. IV).
Мужественный историзм Н.В. Болдырева не выносил беспочвенного идеализма и не склонен был к апологизации современной исторической действительности. Для него не было другой царской дороги к идеалу, кроме самой истории, которую он требовал изживать, то есть проживать.
Идеал в восприятии Николая Васильевича был подобен душе в человеке, а историческая действительность — человеческому телу. Как тело без души не является человеком в собственном смысле слова, так и действительность без идеала не является историей.
Линейного развития истории человечества Н.В. Болдырев не признавал, его восприятие истории было более сложным и многогранным. В его философии истории действующими лицами признаются лишь государства, народы, социальные и политические группы, но никак не целое человечество, идущее к единой цели. «Выступление на сцену человечества, — утверждал Н.В. Болдырев, — означало бы конец истории. На исторической сцене могут выступать, без опасности проломить ее, лишь отдельные народы. Нужно проникнуться мыслью, что группы, народности — единственное русло исторической действительности; они тот священный хлеб, в котором совершается таинство пресуществления идеала в действительность» (Там же. Гл. IV).
И «причаститься» этому идеалу возможно только служа сверхличному, общему долгу. Дух истории требует служения и дисциплины, и подлинно историчным может признаваться только то время и те исторические деятели, которые способны к жертвенному и героическому служению во имя сверхличного идеала. «Дух истории — дух служения и дисциплины. Историчны лишь те люди и те эпохи, которые проникнуты священным безумием служения, героического подвига и сверхличного творчества. Творят историю слуги сверхличного, аскеты, воины и государственные люди — все те, кто не боится положить свою душу для другого; все же либертины, человеколюбцы, все дрожащие над драгоценной человеческой личностью неизменно теряли свою душу и убивали историю» (Там же. Гл. IV).
Цель истории, по Н.В. Болдыреву, не может стать исторической действительностью, мыслимая возможность достижения цели истории кажется ему утопией и принижением самой истории.
«Утопизм, — пишет он, — враждебен истории. Полагая цель истории во времени, на одном из концов истории, то есть в прошлом (миф золотого века) или в будущем, у колыбели истории или у ее могилы, или же, наконец, в моменте настоящего, утопизм убивает нравственный смысл исторического процесса» (Там же. Гл. II).
Н.В. Болдырев выделяет несколько типов утопизма. Утопизм мечтательный, в котором «представление идеала объявляется фантазией, но тогда действительная безыдеальная история оказывается скучной и томительной прозой. Не видя смысла в истории, мечтательный утопист отказывается и от исторического делания, и у него опускаются руки» (имеется в виду тип утопизма Томаса Мора). В утопизме фанатическом, наоборот, «история объявляется каким-то тяжелым сном, наваждением, от которого человечество должно рано или поздно проснуться. Фанатическая вера в реальность идеала, мелькающего в соблазнительных и живых образах, толкает на энергическое и беспощадное разрушение исторически данной действительности».
Указанные виды утопизма равно находятся в конфликте с реальной исторической действительностью и стремятся к ее преодолению для достижения своего утопического идеала. Мечтательный утопизм попадает в пустоту своего идеала, а фанатический утопизм проваливается в пропасть, не способный перескочить от реальности в свой заоблачный идеал.
Теория прогресса, столь популярная в XIX и XX столетиях, признается Н.В. Болдыревым также одной из разновидностей утопизма, очень похожего на фанатический. Разница тут обнаруживается количественная. «Идеал берется здесь не сам по себе, не отвлеченно, а как конец, последняя ступень исторического движения». Прогресс постулирует линейное постепенное движение от неидеального, несовершенного прошлого — к идеальному и совершенному будущему, с конечным достижением (концом истории) абсолютно идеального и абсолютно совершенного.
Наряду с оптимистическим прогрессом столь же утопичной мыслится и идея пессимистического регресса, когда все абсолютно идеальное лежит в изначальном прошлом, в золотом веке, — далее же постепенно и так же линейно все в истории ухудшается и ухудшается.
В теории прогресса идеал осуществим только с концом истории, весь же исторический процесс является как бы приготовлением к этому акту сотворения абсолютного жизненного идеала. «Идеал (для прогресса. — М. С.), — пишет Н.В. Болдырев, — простая техническая цель, которая перестает быть целью по ее достижении; история же — скучный гость, ухода которого все дожидаются с нетерпением».
Идеал и действительность страшно умаляются в идее прогресса и заменяются измышленными фантастическими идеалами и утопической действительностью. Любая умозрительная система прогресса строится из бесконечно малого материала, субъективно выбранного из огромного разнообразия мира человеческой истории («самая богатая фантазия — только скудная выборка из безмерного богатства данности»).
В связи с размышлениями Н.В. Болдырева об идее прогресса уместно вспомнить взгляд на эту проблему такого тонкого философа, как П.Е. Астафьев (1846—1893). Для него существовало два противоположных исторических воззрения: одно — связанное с идеей развития, а другое — с идеей прогресса. «Под развитием, — постулировал П.Е. Астафьев, — в противоположность разложению, разумеется переход простейших форм жизни генетически… в сложнейшие, то есть обладающие, при большей расчлененности и разнообразии органов и отправлений, вместе и большей их взаимозависимостью, большей, следовательно, крепостью внутреннего единства. Здесь дело только в усложнении и единстве. Понятие же прогресса противополагается понятию регресса — не упрощения… но ухудшения жизни, то есть уменьшения в ней счастья, справедливости, силы и т. п. Для теории же прогресса и смысл и оправдание как всей истории, так и всех ее отдельных эпох, событий и характеров лежат не в них самих, но вне их, не в самом процессе истории, но в тех результатах, к которым он должен будто бы привести человечество в конце истории».
Н.В. Болдырев и П.Е. Астафьев, независимо друг от друга, одинаково сформулировали понимание теории прогресса — как утопизма конца истории или последней ступени исторического существования, глубоко отделяя в области философии истории одно от другого — мужественный историзм от юношеских антиисторических утопий.
Часть 2.
Правда большевицкой России и правда имперской России
Перед революцией духовные и государственные основы России были, по глубокому замечанию Н.В. Болдырева, «затянуты жиром благополучия» — благополучия прежде всего слоя интеллигентного, не в последней степени из-за этого потерявшего ощущение национальных основ. Это духовное «ожирение», особое «нечувствование Отечества» (выражение Л.А. Тихомирова), при материальном благополучии и образовательной раскалке (в противоположность закалке) национального ума способствовало революционным устремлениям образованных и полуобразованных масс интеллигенции. По-видимому, «ожирение» и отрыв от русских основ достигли столь глубокой стадии, что революция, при всей своей лжи и крови, могла нести в начале XX столетия в себе и крупицы правды. Быть может, эти крупицы правды в революции заключались в насильственном «оголении» основ, в уничтожении жировых отложений, ставших средостением между жизнедеятельными основами и нацией.
«Наше время прекрасно, — парадоксально заявлял Н.В. Болдырев, — и величественно тем, что теперь уже начала не могут быть забыты. Самые глубокие и скрытые начала вдруг оказались на виду у всех, и всем ясно: жизнь определяется тем, что мы кладем в основу, и должен быть сделан выбор этих начал. Правда революции в том, что она показала реальное значение принципов жизни» (Гуманизм против человечества // Правда большевицкой России). Революция показала, что такое массы, в которых укрепились идеи гуманизма, идеи самодостаточности и самозначимости человека как главной ценности в мире. Безбожная автономность от Творца уничтожила личность как деятельную фигуру исторической действительности и вывела на историческую арену безликую, недовольную и горделивую массу, способную лишь к разрушению.
Для воплощения зла революции, для акта разрушения необходима святыня, нужна традиция. И порою необходимо покушение на святыни, чтобы дремлющее добро в людях, покрытое теплохладным слоем безразличия, «ожирением», от потрясения вышло на поверхность и вновь стало руководящим в жизни человека. Правда революции в том, что она была одним из бичей Божиих на ленивых, «ожиревших» от благополучия, «нечувствительных» к своим святыням.
Революция соскабливает с нации «жир» теплохладности, и чем больший слой этого духовного псевдоблагополучия накапливается на теле нации, тем более кровавое сдирание его происходит в исторической действительности. Обнищание, обесценивание и упрощение жизни уничтожили все возможные «жировые отложения» старого времени и «оголили» те основы, прежде всего религиозные, которыми русский человек жил многие сотни лет. Еще больший эффект этому «оголению» придало одновременное поругание революцией этих основ. «Живая часть России увидела на позорище свои святыни и уже, видимо, навсегда перед ними преклонилась» (Принцип относительности // Там же).
Церковь испытала гонения, сравнимые лишь со временами гонений первых веков христианства, сонм православных мучеников пополнился тысячами и тысячами новых убиенных за веру; имперская государственность была полностью разрушена — большевицкая идея федерального союза, искусственно разделившая единую Россию, стала поруганием всех многовековых стараний русских поколений, собиравших воедино земли Российской Империи; монархическая идея через мученическую кровь Царской Семьи навсегда получила ореол особости и священности в памяти людской; русские, как нация, испытали все возможные унижения национальной и личной гордости, став реально подопытными образцами в великой «лаборатории» штаба мировой революции; семья, жизненные призвания мужчины и женщины, воспитание детей — все было извращено революцией и поставлено под контроль большевицкой власти.
Стремление к упрощению, овладевающее торжествующим большинством в революции, «как это ни странно, — пишет В.Н. Болдырев, — легкий и приятный процесс, сопровождающийся чувством бодрости и веселья. Освобождаясь от сверхличного и от служебного подчинения ему, я получаю вдруг возможность свободной и беспечной жизни за счет капитала, накопленного тяжким трудом сверхличного служения. Это приятное головокружение растратчика, который перестает копить и предается сладостному потреблению благ — до тех пор, конечно, пока этих благ хватит» (Гуманизм против человечества // Там же).
Переключение смысла истории и жизни на личность принижает все сверхличные основы — Творца, Церковь, Государя, государство, нацию, семью — и уничтожает вообще смысл за пределами человеческого тела и его насыщения. Это такой ущербный «смысл», что в реальности он стремится в небытие, стремится к еще большему распаду, атомизации. Усечение смысла до размера индивида уничтожает и самого индивида. «Революция рассеяла мираж гуманизма, — с глубокой радостью пишет Н.В. Болдырев, — и стало совершенно ясно, что человек сам по себе не имеет никакой ценности и никакого интереса» (Две интеллигенции // Там же).
В этом смысле уничтожение революцией большей части нашей старой «освободительной» интеллигенции, бывшей, в свою очередь, интеллектуальными дрожжами, на которых «подошла» революция, стало определенным этапом в отходе от революционного пути — бродильных элементов становилось гораздо меньше…
В своей философии жизни Н.В. Болдырев находился под обаянием идей Константина Леонтьева о необходимости для цветущей жизни многообразия живых форм в единстве. «Мы должны, — говорил он, — вновь открыть смысл в войне и в государстве, в национальности и в ее просветлении и возвышении вплоть до империализма, в семье, в личной собственности, в едином духе великого культурного стиля» (Там же).
Революция удивительным образом явилась не началом нового, а именно концом старого: «Революция взвесила все земное, и оно оказалось легким». Революция несколько раз «взвешивала» русское общество на неких апокалипсических весах — и в 1825, и в 1881, и в 1905 годах, и всякий раз стрелка на весах показывала достаточное (критически достаточное) наличие духовного содержания в русских людях, не позволявшее революции сместить чашу весов в свою сторону. Лишь в 1917 году, вновь «взвесив» все земное в России, революция впервые нашла его столь легким, чтобы перевесить и стать исторической действительностью для России на долгие годы.
Ожидание революции в начале XX века действительно более не с чем сравнить, как только с ожиданием Второго Пришествия, когда свыше будет произнесено: «Се, творю все новое». Ожидание этого «нового» в революции до того фантастично и до того фанатично, что одна психологическая сила этого ожидания приближала пришествие революции в Россию лучше, чем все митинги и забастовки вместе взятые.
«Конечно, — писал Л.А. Тихомиров, — история наполнена множеством восстаний и переворотов, более или менее внезапных, но это были, так сказать, военные столкновения враждующих партий, где восставшие захватывали для себя место низвергнутых, без дальнейшего превращения революции в систему реформы. Идея революции, быстрого переворота всего мира, имела место лишь в христианском учении о конце мира… процесс порождения революционной идеи из христианства… начал совершаться с отбросом религиозного мировоззрения при сохранении христианской психики».
Люди в таком болезненном состоянии духа — состоянии одержимости социальным разрушением — были готовы принять революцию как нечто прекрасное, чудесное, приносящее избавление от всех земных тягот и горестей. К революции не относились как к радикальной социальной реформе, в ней хотели видеть всеобъемлющую Реформацию всех сторон земной жизни, или, иначе говоря, установление на земле материалистического подобия Царствия Небесного, райского благополучия.
Когда же революция материализовалась в теле — в образе большевиков — со своей партией, цареубийством, карательной Чека, диктатурой пролетариата, продармиями, расстрелами, заложниками, красным террором, экспроприациями, гражданской войной, брестским мирным предательством, святотатством, гонениями, массовым хамством, классовой враждой и т. д., — нация невольно в ужасе осенила себя крестным знаменем — и все «светлые одежды», видевшиеся или воображавшиеся на образе революции, испарились, как бесовский мираж, наваждение.
В сложившейся исторической реальности осталась неизбежная дилемма выбора — либо покориться перед материальной силой революции (покориться партии), либо вернуться в Церковь — последнее прибежище, оставшееся от старого христианского мира Империи. Выбор стоял между новой верой в большевицкую партию Ленина или старой верой в Церковь Христову. Революция упростила этот выбор, сократив его до двух реальных сил в обществе — партии и Церкви.
Безликая масса, рожденная революцией, пошла громить внешние проявления Церкви — церковные здания, имущество и т. д.; остальные же, не покорившиеся «большевицкому зверю», восприняли Церковь глубоко в свои сердца, семьи, квартиры, немногие оставшиеся открытыми храмы, где она пережила многочисленные волны гонений и мученичества от воинствующего атеизма.
Размах атеистического и богоборческого святотатства в России не имел подобных аналогов в цивилизованной Европе несмотря на то, что и там были многочисленные революции. Вопросом об особом феномене радикального безбожия в России после революции задавался и Н.В. Болдырев. «Но чем же объяснить, — вопрошал он, — что именно Россия оказалась носительницей самой гнусной из всех революций? Высота взлета волны равна глубине ее падения. И чем чище и выше была святыня России, тем больше привлекала она к себе нечистую и низкую силу… ведь для того, чтобы святотатство достигло таких, как у нас, размеров, нужно, чтобы святыня, на которую посягают, была не меньшей, чем у нас, святости. Для того чтобы надругаться над мощами и чудотворными иконами, надо прежде всего иметь и то, и другое. Благопристойные немцы и англичане гарантированы от гнусного святотатства за полным неимением предметов святотатства. В Риме они есть, но там их нельзя так профанировать, как у нас, потому что римская церковь сама их несколько профанирует, постоянно погружаясь в дрязги мира и овладевая ими не посредством строжайшей аскезы, а путем обмирщения себя и постоянного компромисса с миром» (Безымянная Россия // Там же).
Политические убеждения Николая Васильевича были ярко выраженным исповеданием империализма. Он видел восходящее солнце вечной православной Империи сквозь временный туман большевицкой России. «Империализм есть великий и ответственный долг подлинной и великой культуры», — утверждал Николай Васильевич. Идеалом православной России для него была универсальная и империалистическая держава.
Первая Мировая и революция, защита Отечества от внешних врагов и разрушение его внутренней смутой духовно отрезвило многих русских интеллигентов предвоенного поколения (представителями этого поколения наряду с братьями Болдыревыми могут быть названы и Иван Ильин, и Иван Солоневич, и Николай Захаров, и Антон Керсновский, и некоторые другие), обратив их внимание на основы русского государства, на имперскую сущность России. Это «привенчивание» лучшей части в целом блудной русской интеллигенции к Родине и нации, это «открытие» ими для себя имперской красоты в русской государственности произошло для многих в самом начале смуты. И так как революция на самом деле является разложением «старого», а не созданием «нового» (это постулировал и сам Николай Болдырев), то провозвестниками имперского возрождения явились те немногие свидетели смуты, которые в борьбе так называемого нового и так называемого старого выбрали всегда присутствующее «вечное» — великодержавие Отечества.
«Теперь, — писал посреди революционной разрухи, в глухом 1928 или 1929 году Н.В. Болдырев, — великодержавность России понятна для нас как патриотический моральный постулат, как необходимый оттенок нашего сознания России. С идеей России неразрывно связан империализм России, потому что империализм означает мировое, космическое призвание государства. Великие государства не просто фрагменты мира, как средние и малые державы. Мировые империи сознают себя призванными в известный момент всемирной истории вместить весь мировой смысл. Большие проигрыши бывают у тех, кто ведет большую игру; Россия всегда была крупнейшим игроком истории» (Там же).
Это осознание «вечности» (естественно, относительной, поскольку все земное не вечно) России и ее величия во всемирной истории весьма непохоже на «традиционные» стенания российской интеллигенции XIX столетия о России как историческом недоразумении…
Н.В. Болдырев ставит очень важный и опасный для революции в России вопрос о сравнении пути войны (мировой национальной войны, называвшейся второй Отечественной) и пути революции (с кровью самой революции, гражданской войны и последующих войн партии с различными классами нации). Революция всегда оправдывалась у нас тем, что война якобы довела страну до полного упадка и разрушения и что только революция спасла Отечество. В реальности же смена пути войны на путь революции была проблемой духовной. Поколение, отравленное пацифизмом и либерализмом, не смогшее закончить победоносно Мировую войну, не смогшее пройти путем войны до конца, от своей духовной слабости, от желания простых и легких (как думалось) путей ввергло Россию в многолетнее и бесславное революционное насилие.
«Государство, — говорил Н.В. Болдырев, — не последняя реальность духовного мира, оно должно и может быть слугой высшего начала и заимствовать от этого начала чистейший блеск и ослепительную славу… Война должна быть и может быть крестом отдельной жизни, а поднять крест и найти смысл — одно и то же. Крест войны оказался непосилен поколению, сделавшему революцию, и оно погрузилось в тоскливое насилие, где победа не слаще и не почетнее поражения. Зато война против революции — уже опять крест, а не просто тягостная ноша, и крест, который для нас — лучшая надежда. Или крест войны — или грязь насилия; необходимость этого выбора. Исключенность всякого третьего пути — вот ясное сознание, которое возникает в нас из тьмы революции» (Война и насилие // Там же).
В своей борьбе с царской и самодержавной властью Императоров революция, как считает Н.В. Болдырев, разрушила только один из этих властных устоев, а именно царскую власть, но не уничтожила самодержавность как властный принцип. При большевиках принцип самодержавности перешел к партии большевиков. Уничтожив принцип единоличности самодержавия, большевики не смогли уничтожить другую необходимую составляющую ее власти — самодержавность, которая стала безлична и коллективна (партийна), но зато осталась принципом.
Здесь мысль Н.В. Болдырева пересекается с размышлениями другого очень интересного консервативного писателя — профессора Василия Даниловича Каткова (1867 — после 1918). О смысле самодержавности как властного принципа В. Д. Катков писал несколько ранее, но практически в том же духе:
«Где нет личного Самодержавия, самодержавия Императоров, там оно сменяется идеей коллективного самодержавия, самодержавия парламентов, самодержавием организованного народа, или целого государства… При этом автократическое управление прикрывается иногда парламентарными формами… идею самодержавия лелеют даже люди, совершенно отрицательно относящиеся ко всему современному общественному и государственному строю: все они отрицают, все хотят уничтожить, кроме одного… идеи самодержавия под термином диктатуры пролетариата. В скрытом, дремлющем виде эта идея Самодержавия живет в груди самого убежденного республиканца, когда сознание огромности задачи, как политического идеала, связывается у него с ясным представлением мизерности настоящих сил для осуществления идеала».
Самодержавность власти, следовательно, — принцип, общий для всякой власти, претендующей на господство или господствующей.
И все же Николай Васильевич Болдырев верил в возникновение новой государственной власти после отхода в небытие большевицкой России; он верил в народную «жажду государственного порядка», во все века свойственную русским, в тоску по отеческой власти. Он верил вместе с Карлейлем, что у русских есть гениальный государственный талант — умение подчиняться, и в нем нет ни тени рабства, о чем любят пространно порассуждать большинство иностранцев и наших западников. Государственный дух таланта подчинения не в процессе самого подчинения, а в цели, которой оно способствует. Государственный инстинкт подсказывает русским (каждый из которых лично, в отдельности, зачастую несет в себе элемент анархический, свободолюбивый), что только при самоограничении в своем служении сверхличному государству нация в целом может быть самобытной (внутри) и свободной (вовне), а каждая в отдельности личность может обрести общественную цель и государственный идеал, неся свое служебное «тягло» и выполняя государственные обязанности. Идеалом же «русского человека всегда будет Царь, который “все может”».
Такой мощный идеал может достигаться только тогда, когда подданные верят в особое царское призвание и готовы нести большие жертвы во имя этого идеала. Говоря словами Н.В. Болдырева, «чем больше я трепещу, чем ниже я во прахе, тем выше во мне государство. Монархия — сознание обратной пропорциональности между мною и государством» (Побуждение и заповедь //Там же).
Источник: Часть 1 https://rusnasledie.info/nikolaj-vasilevich-boldyrev-revolyuciya-vzvesila-vsyo-zemnoe-i-ono-okazalos-lyogkim/
На нашем сайте: Правда большевицкой России


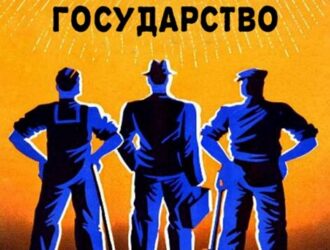

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.