СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ
Эдгар Юлиус Юнг
 Эдгар Юлиус Юнг (нем. Edgar Julius Jung; 6 марта 1894 в Людвигсхафен — † 30 июня или 1 июля 1934 в Берлине, или в лесу под Ораниенбургом) — немецкий юрист, политик и журналист, один из идеологов «консервативной революции»… Целью консервативной революции Юнг полагал «восстановление элементарных законов и ценностей, без которых человек теряет связь с природой и Богом и не сможет построить истинный порядок. На место равенства вступит внутренняя ценность, на место классового сознания — справедливое социальное устройство в корпоративном обществе, на место механических выборов — органическое воспитание вождя, на место бюрократического принуждения — внутренняя ответственность истинного самоуправления, на место массового безликого счастья — право суверенной личности как части народа»… 25 июня 1934 г. арестован, Эдгара Юнга выволакивают из камеры в подвале штаб-квартиры гестапо на Принц-Альбрехтштрассе; 30 июня или 1 июля 1934 г. Юнг умирает в роще близ Ораниенбурга. Русская энциклопедия «Традиция».
Эдгар Юлиус Юнг (нем. Edgar Julius Jung; 6 марта 1894 в Людвигсхафен — † 30 июня или 1 июля 1934 в Берлине, или в лесу под Ораниенбургом) — немецкий юрист, политик и журналист, один из идеологов «консервативной революции»… Целью консервативной революции Юнг полагал «восстановление элементарных законов и ценностей, без которых человек теряет связь с природой и Богом и не сможет построить истинный порядок. На место равенства вступит внутренняя ценность, на место классового сознания — справедливое социальное устройство в корпоративном обществе, на место механических выборов — органическое воспитание вождя, на место бюрократического принуждения — внутренняя ответственность истинного самоуправления, на место массового безликого счастья — право суверенной личности как части народа»… 25 июня 1934 г. арестован, Эдгара Юнга выволакивают из камеры в подвале штаб-квартиры гестапо на Принц-Альбрехтштрассе; 30 июня или 1 июля 1934 г. Юнг умирает в роще близ Ораниенбурга. Русская энциклопедия «Традиция».
СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ
В статье «Человек и общество» было показано, что построение социального порядка в основном зависит от отношения людей, составляющих это сообщество. Это отношение может основываться на желании отдельных людей строить сообщество и государство в своих интересах и для своей выгоды или, наоборот, исходить из интересов всего сообщества, включив индивидов в него как составную часть. Для здорового и справедливого общественного порядка подходит только последний подход, так как только он гарантирует процветание общества в целом и подавление личных интересов. Далее было указано, что мировоззрение, по своей сути, является эмоциональным отношением, поскольку только в этом случае оно проявляется в действиях. Не знание о необходимости подчинения интересам общества побуждает индивида ставить свои личные интересы на второй план, а чувство принадлежности к чему- то бесконечно большему и вечному. Такое эмоциональное отношение, которого не хватает в наше время и отсутствие которого приводит к «борьбе всех против всех», по сути своей, носит религиозный характер.
Религию нельзя путать с церковью. Церковь это организационное воплощение человеческого со общества с одинаковыми убеждениями, религия же понятие более широкое, чем церковь. Церковь является определенным аспектом религиозной жизни в целом. Так что возможно, что церковные люди не обязательно религиозны, и наоборот, есть религиозные люди, которые отвергают церковные связи.
Что же такое религия? Перевод этого латинского слова означает «связь». Связь с кем? Это главный вопрос, вопрос веры. Но решающим является основное чувство человека, что он не просто одинок и уникален, а значит, временно пребывающий в бренной форме человеческой жизни, но является частицей высшей общей жизни, более или менее непостижимого высшего существа, от которого исходит жизнь и в которое она возвращается. Религия - это, следовательно, вера во всепроникающую высшую силу. Эта вера изначально не нуждается в конкретном выражении. Определенные четкие представления об этой высшей силе или о мире, который не воспринимается органами чувств, изначально не обязательно должны быть связаны с религиозным основным чувством.
Однако в природе человека заложено, что это чувство всегда живет в какой-то форме в человеке и стремится к определенному воплощению. И это потому, что человеческая жизнь преходяща, и человек, по крайней мере умственно и в воображении, хочет преодолеть эту преходящесть. У нас есть стремление к вечности. Представление в том, что смерть может внезапно оборвать все наши усилия и стремления, невыносима для человеческого разума. Он спрашивает себя, не будет ли при земная жизнь бессмысленной, все усилия напрасными, если не ожидать продолжения жизни и какой-то форме. Но есть еще одно побуждение и человеческом разуме, чтобы выйти за пределы ного ограниченного, земного существования. Это ограниченность нашего познания. Чем больше мы проникаем в суть Вселенной, тем больше осознаем Границы наших познавательных способностей. Как заметил великий философ Кант, мы стоим перед звездным небом в полном изумлении. Даже достижения техники и проникновение в суть материи с помощью научных достижений не могут дать нам никакого объяснения. Наоборот! Чем дальше продвигаются наука и техника, тем более грандиозным становится осознание бесконечности Вселенной и тем острее встает вопрос, действительно ли с распадом человеческого тела завершается вся жизнь. Поэтому неправильно говорить, что прогресс в естественнонаучном познании уничтожает веру человека; скорее, глубокий взгляд в тайны природы приведет к тому, что ее устройство и планомерное развитие будут казаться еще более загадочными, чем прежде.
Естественно, что некоторые явления, которые религиозные учения описывают как чудеса и которые не поддаются объяснению, могут утратить свой фантастический характер по мере того, как будет расширяться наше знание естественнонаучных взаимосвязей. Но делать вывод о том, что религиозная жизнь, мышление и чувства стали излишними, ошибочно. Например, когда мы устанавливаем, что современный мир постепенно развивался на протяжении миллионов лет, а не был создан за семь дней, как учит история творения, это никак не объясняет чуда творения. Это лишь устраняет наивную веру, и требования, которые сейчас предъявляются к человеческой вере, становятся более сложными. Ведь откуда взялась жизнь, которая должна была стоять в начале этой цепи развития? Монизм1 так называемых вольнодумцев и школа философа Геккеля2, которые нашли отклик среди широких масс, поэтому являются чем-то очень поверхностным. Они лишь отвергают библейскую версию, но не предлагают ничего взамен, кроме неопределенных предположений, в которые монисты верит так же, как христиане. Таким образом, даже вольнодумцы верят, но они думают, что знают всё -- и именно поэтому они, по сути, суеверны.
Человеческий разум не может преодолеть факт того, что он не способен понять ни самые ранние истоки, ни конечный смысл жизни, и даже самый умный мыслитель не может этого сделать. Упомянутый выше философ Кант заслужил безсмертную известность, навсегда установив эти вечные границы человеческого разума. Но если человек не хочет опуститься до уровня животного, которое просто живет и умирает, так и не осознав свою бренность, то он будет всегда стремиться чувствовать себя частью большего, бесконечного существования. Это возможно только через веру. На самом деле, все люди во что-то верят, даже те, кто считает себя выше этого и называет верующих людей глупыми. Да, эти умники верят в гораздо более непостижимые вещи, чем, например, Бог. Конечно, существование Бога, восседающего над всей жизнью, не может быть доказано с помощью человеческого разума; но это и не может быть опровергнуто. С другой стороны, пацифисты или убежденные коммунисты верят в то, что можно опровергнуть человеческим разумом: в вечный мир или в равенство всех людей на земле. Вечный мир никогда не был реализован в истории человечества; поэтому борьба и война глубоко укоренены в человеческой природе и, следовательно, неистребимы. Человек или народ, который глубоко убежден в своей правоте, всегда будет чувствовать долг бороться за свою истину и отдавать за нее жизнь, ведь всегда найдутся те, кто будет оспаривать это правоту. Так возникает борьба, и она всегда была доминирующей силой в формировании жизни. Похожая ситуация с коммунистической доктриной, которая всегда будет терпеть крах из-за различий между людьми. Трудолюбивый, экономный и жертвенный человек никогда не будет готов делить плоды своих усилий с тем, кто ничего не делает и ленив. Но несмотря на все государственные принуждения и воспитательные усилия, всегда будут люди, готовые работать, и те, кто менее склонен к этому. Тем не менее существуют верующие в пацифизм и коммунизм, и показательно, что это именно те, кто отрицает религиозную жизнь и хотят воплотить Царство Божие уже на этой земле.
Великим уравнителем между людьми разного рода, противоположного образа жизни и различных сословий является смерть. Существует только одно равенство -- перед лицом смерти. Именно мировая война преподала урок тем людям, которые верили лишь в успех на этой земле и так называемое счастье в этом мире и боролись за это. Они увидели, что смерть не щадит никого. И наоборот, самопожертвование воина для всех людей является одинаковым моральным подвигом. Тот, кто годами смотрел смерти в глаза, понимает, насколько жалка вся эта погоня за счастьем на земле, что главное уметь перед лицом смерти сказать: я выполнил свой долг в этом мире. Умирать с этим чувством высший смысл всей жизни. Нет ни одного великого мыслителя или поэта, который не пришел бы к такому выводу. Особенно это касается величайшего немецкого произведения - «Фауста» Гёте.
Поэтому я считаю, что время, когда надменные люди, слишком гордые своим небольшим знанием в области естественных наук, отрицали всякую веру и божественное влияние, прошло. Именно среди по-настоящему мыслящих людей а такие есть повсюду, потому что мышление не зависит от уровня образования -- можно говорить о новом пробуждении религиозной жизни.
Однако возражают, что этому предположению противоречат многочисленные выходы из церкви. Верно, что антицерковное движение достигло таких масштабов, каких не было на протяжении столетий. Но это не говорит против религиозности как таковой. Во-первых, это движение можно рассматривать как запоздалое последствие пропаганды свободомыслия. Эта пропаганда начинает сказываться только сейчас, в то время как наука и мыслящие круги уже давно преодолели коммунизм и материализм. Естественно, что воздействие этой религио ной волны также проявится лишь через годы.
С другой стороны, выходы из церкви свидетельствуют лишь о том, что существующие вероисповедания пока не смогли адаптироваться к эпохе техники и расширению нашего научного взгляда на мир. Естественно, что церковные догмы, в которые человек мог верить в Х веке, могут казаться немцу ХХ века недостоверными. Я напоминаю здесь о вышеупомянутом примере с историей творения. Несомненно, что обновление или дальней шее толкование церковных догм должно было бы произойти как можно скорее, чтобы не слишком усложнять современному человеку веру в церковные учения. И я лично питаю обоснованную надежду, что как в протестантской, так и в католической церквях такое приспособление к духу нового времени произойдет как можно скорее. С другой стороны, многие люди должны тщательно обдумать свой выход из церковных обществ. Ведь разве вера в божественный порядок была хоть в малейшей степени опровергнута техническим прогрессом? Или существует ли более высокая нравственность, чем та, которая была запечатлена жизнью и кровью Христа? Человечество никогда не преодолеет эту мощную нравственную силу. Поэтому очень поверхностно считать, что из-за какого-то, возможно, незначительного церковного догмата, с которым отдельный человек не может полностью согласиться, можно отказаться от тысячелетнего наследия предков.
Кроме того, есть еще одно соображение: только вера в Божественный порядок, который навсегда останется для нас неразгаданным, может дать человеку твердые нравственные критерии. Человек должен действовать так или иначе не потому, что нарушение запрещено уголовным кодексом, а потому, что нарушение противоречит нравственному закону. Нравственный закон эффективен только тогда, когда человек не считает себя главным в жизни, а рассматривает себя как частицу общего существования. Человек живет в обществе, и жизнь общества требует, чтобы отдельный человек подчинялся и жертвовал ради общества. Иначе совместная жизнь людей, а следовательно, и вся человеческая жизнь невозможны. Но для этого нужна вера в нравственный порядок. Мы не можем передать подрастающим детям этот твердый нравственный критерий лучше, чем когда мы даем им на жизненном пути величественное учение христианства. Тот, кто наблюдал трогательную веру ребенка, верящего в радость, которую приносит Рождественский младенец, и все же лишает своих детей возможности воспринимать библейскую рождественскую историю, не любит своих детей.
Поэтому можно сказать, что в наше время уже нельзя говорить о неосознанной детской вере людей, но, с другой стороны, именно лучшие представители немецкого народа, особенно его великие мыслители, всегда старались и продолжают стараться осмыслить последний вопрос человечества - о высшей жизни. Люди, которые больше не способны на это, опускаются до уровня животных. И все разговоры о культуре бессмысленны если в народе не укоренено это последнее чувство - чувство принадлежности к высшей жизни и растворения в ней.
Сегодня это полуграмотные люди, гоняющиеся лишь за деньгами и счастьем, потому что духовно они нищие, отрицающие все божественное в человеке. Но их время приближается к заслуженному концу. Без религиозной основы нет культуры, нет подлинного человечества, нет и социального мира. Народы без религии будут побеждены народами верующими. Ведь только у них есть мужество идти на жертвы и вера в высшее предназначение.
- Монизм - философский термин, характеризующий концепции, утверждающие единство бытия и возводящие многообразие явлений к одному объекту, началу, принципу, к одной субстанции или к одному роду бытия.
- Эрнст Геккель (1834-1919) — немецкий биолог-эволюционист, философ и популяризатор науки. Развивал мировоззрение монизма, в соответствии с которым пытался преодолеть противоречия между религией и наукой, писал об одушевленности всей природы, отрицал различие между материей и сознанием, наделил сознанием все организмы и клетки.
Источник: Юнг Э. На пороге нового времени. – М.: Тотенбург,2024, сс.37-46


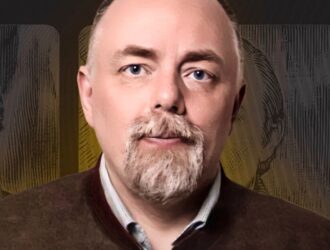
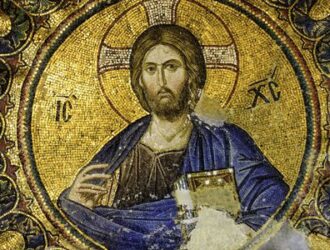
1. «не будет ли при земная жизнь бессмысленной» - вся земная жизнь.
2. «Но есть еще одно побуждение и человеческом разуме, чтобы выйти за пределы ного ограниченного, земного существования.» - побуждение в человеческом разуме.
«Aber noch ein anderer Anreiz besteht im menschlichen Geiste, über das diesseitige, begrenzte Leben hinauszuwachsen.»
«Но в человеческом разуме есть и другое побуждение - выйти за рамки этой земной, ограниченной жизни.»
В данном случае вероятнее всего - «оного».
3. «тем больше осознаем Границы» - границы.
4. «монисты верит так же» - верят.
5. «кто будет оспаривать это правоту» - эту.
6. «Умирать с этим чувством высший смысл всей жизни.» - Умирать с этим чувством - высший смысл всей жизни.
7. «воздействие этой религио ной волны» - религиозной.
8. Безконечные «выходы из церкви», которые на деле должны быть отпадением, отходом от Церкви, уходящими от Церкви, ваходом из Церкви.
9. «обновление или дальней шее толкование» - дальнейшее.
10. «разговоры о культуре бессмысленны если в народе» - безсмысленны, если.
11. В случае с «Кант заслужил безсмертную известность» переводчик Ислам Паштов, видимо, ошибся с написанием слова «безсмертную», так как во всех остальных случаях торжествуют бес(ы).
P.S. Отвратительный перевод, к сожалению.
Тем не менее, спасибо. Че - инок убрал.
Прошу прощения, но текст статьи действительно совпадает с "Источник: Юнг Э. На пороге нового времени. – М.: Тотенбург,2024, сс.37-46"? Некоторые предложения просто безсмысленны и нелепы.
Какое-то это неправильное предложение: «И это потому, что человеческая жизнь преходяща, и че- инок, по крайней мере умственно и в воображении, хочет преодолеть эту преходящесть.»
В оригинале на 20-й странице написано: "Und zwar deshalb, weil das menschliche Leben vergänglich ist und diese Vergänglichkeit vom Menschen zum mindesten geistig und in der Vorstellung überwunden werden will."
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:355-ubr25181-2
Переводчик выдает: «Это потому, что человеческая жизнь скоротечна и эту быстротечность людям необходимо преодолеть, хотя бы мысленно и в своем воображении.»