«Русская идея»
Опыт моей переводческой биографии
 Все-таки я решил последовать советам наших прихожан (С.Т., Б.К., Г.Г. и др.) и описал это: как из просоветского Алжира я, будучи простым переводчиком, с женой (моя первая жена Елена от студенческого гражданского брака, она была из артистической семьи) и с трехлетним сыном Филиппом попал в Германию. Не думаю, что эта история имеет значение для цели моего сайта, но поскольку я в последнее время публикую воспоминания, размещаю это как очередную страничку моей биографии для детей и внуков, родственников, друзей.
Все-таки я решил последовать советам наших прихожан (С.Т., Б.К., Г.Г. и др.) и описал это: как из просоветского Алжира я, будучи простым переводчиком, с женой (моя первая жена Елена от студенческого гражданского брака, она была из артистической семьи) и с трехлетним сыном Филиппом попал в Германию. Не думаю, что эта история имеет значение для цели моего сайта, но поскольку я в последнее время публикую воспоминания, размещаю это как очередную страничку моей биографии для детей и внуков, родственников, друзей.
Сразу отмечу, что уже рассказывал об этом много раз в Германии и в РФ тем, кто интересовался, и не сомневаюсь, что КГБ это тоже давно знает. К тому же времена с тех пор изменились, так что если я опубликую какие-то имена, этим людям уже неприятности грозить не могут.
Почему я стремился на Запад, я уже описал в своем «Опыте философской биографии»: моей жизненной целью в молодости было познать смысл бытия, который я, не доверяя государственной коммунистической идеологии тоталитарного СССР, мечтал узнать в «свободном мiре» ‒ учась на факультете философии в солидном западном университете. В этой же статье описано, какой опыт я из этого приобрел.
В связи с не очень умными, но неоднократными «разоблачениями» меня как «агента КГБ», засланного через Алжир в русскую эмиграцию, историю моего побега следует начать с взаимоотношений с этой конторой в институте. Это будет и свидетельством того, что в СССР означала работа переводчика. Могу допускать незначительные неточности, так как прошло полвека и не всё сохранилось в памяти (в дневнике я записывал не всё, в основном свои теоретические размышления), но в целом всё помню. Также сразу напомню, как уже писал ранее, что в то время я был обычным антисоветчиком-нигилистом, абсурдистом (считал, что в мiре нет единого смысла) и космополитом-западником, наивно верившим в совершенное свободное общество на Западе в сравнении в советским. Этим я и руководствовался в своих жизненных планах. Так что многое из того студенческого состояния и поведения мне сейчас, конечно, чуждо и неприятно, но не стану это скрывать и приукрашивать, поскольку я давно стал другим человеком. (Напомню также, что в институте и в Алжире я имел и другую фамилию, отчима моего отца ‒ Пахомов.)
МГПИИЯ им. Мориса Тореза

Наш институт считался элитарным, и в нем особенно наш переводческий факультет, поскольку из нас готовили «бойцов идеологического фронта» в прямых контактах с иностранным мiром. Поступил я туда со второго раза: в 1967 году после техникума набрал проходной балл (16, все четверки), но не прошел, полагаю, в связи с необходимостью отработать три года на производстве. От сделанного предложения пойти с этим баллом в Военный Институт иностранных языков я тогда отказался.
В 1970 году, приехав из Арктики, на вступительных экзаменах набрал уже 18 баллов и был зачислен. В нашей группе (а они в инязе были маленькими 10-12 человек), я оказался старшим по возрасту и обладателем некоторого жизненного опыта, так что на фоне вчерашних школьников-юнцов наш групповой руководитель П.Н. Куриленко назначил меня старостой группы. А поскольку он был заместителем декана ‒ ему было удобно, чтобы я стал и старостой курса, чтобы вести для него статистику посещаемости и успеваемости на основании всех групповых журналов. Этой «секретарской» работы было немного, меня она не тяготила, ибо к идеологическим комсомольским структурам не имела никакого отношения, но позволяла прогуливать неинтересные (идеологические) предметы, а экзамены по ним я сдавал благодаря хорошей тогда памяти на тексты, аврально прочитываемые перед сессией (у меня все годы была повышенная стипендия, разумеется, по показателям успеваемости).
На переводческий факультет принимали только студентов мужского пола, так как его курировало министерство обороны. У нас была военная кафедра по специальности «Военный перевод и контрразведка», то есть из нас готовили также и штабных армейских офицеров с навыками работы по картам, документам и вооружению «противника» (Бундесвера). С первого курса нас приучали к дисциплине, к обращению с «секретными» бумагами (в одном из военных кабинетов мы вели конспекты, которые по окончании урока сдавались преподавателю и хранились в этом кабинете без права выноса, разумеется, в дисциплинарно-тренировочных целях). Институтская дисциплина относилась и к внешнему виду: нас приучали к тому, что при работе с иностранцами переводчик должен быть скромным, незаметным, опрятно одетым (костюм и галстук). Уже в первый месяц учебы у всех требовали обязательство не вступать в самостоятельные, несанкционированные контакты с иностранцами и сообщать в деканат, если такое случится. В деканате был постоянный представитель КГБ ‒ вечно хмурый замдекана Юдинцев.
Знание языка было потенциальным средством нарушения советской информационной монополии, и его они должны были держать под контролем. Но не только это. На старших курсах многие студенты владели языком уже достаточно хорошо и нередко искали подработку. С письменными переводами ограничений не было (я переводил тексты для рекламного агентства, располагавшегося в нашем дворе в бывшем старинном доме композитора Алябьева), а вот устный перевод, предполагавший общение с иностранцами, уже не мог обходиться без отчета о нем органам. Это нам откровенно разъяснили инструкторы в «Интуристе», краткая стажировка в котором входила в программу нашего обучения по сопровождению туристических групп в качестве гида.

Пропуск на Универсиаду-73
С КГБ впервые пришлось иметь дело летом после третьего курса, когда нас, студентов, в виде практики направили вместо «Интуриста» переводчиками на Универсиаду-73. Видимо, моя должность старосты курса была для кагебэшников достаточной гарантией того, что со мной можно сразу обращаться без церемоний и я обязан помогать им в наблюдении за иностранными спортсменами (в данном случае из ФРГ), во всяком случае гебэшники сразу мне об этом заявили и зачем-то взяли второй ключ от моей комнаты, куда приглашали собеседников без моего ведома (все мы жили вместе со спортсменами в общежитии МГУ в знаменитом высотном здании). Впрочем, конкретных поручений они мне не давали.
Однажды я их обнаружил в своей комнате вместе с немецким переводчиком. Он держал себя независимо и достойно, понимая, с кем имеет дело, и мне было неловко перед ним, поэтому, когда гебэшники зачем-то на минутку вышли, я сказал ему, что «тут все говорят не то, что думают» ‒ показывая этим, что сам я с его собеседниками не связан. Он ответил мне понимающе: «То, что я думаю, я говорю в другом месте». Они потом назвали мне его фамилию: якобы «Нёрманн», зачем-то солгав. (Три года спустя, встретившись с ним в Мюнхенском Толстовском фонде на одном из эмигрантских вечеров, я узнал его имя ‒ Виктор Древинг, регент православного хора, он очень удивился, увидев меня, и стал в шутку щипать себя за щеку.)
В отношении КГБ больше ничего особенного на Универсиаде не было, разве что они украли подаренную мне пластинку джаза (блюза) с автографами членов немецкой команды. Отчет писать мне не пришлось, иначе бы я его запомнил как свой первый. Я свободно общался с немцами, особенно с гимнастами, будучи и сам в юности таковым, откровенно говорил с ними о политике, об СССР то, что думаю, поменял на нужные им рубли некоторое количество марок (это тогда считалось «валютным преступлением»), на которые кое-что купил в «Березке» (десяток книг Булгакова и др.) и позже в гэдээровском «Интершопе».
В ГДР нас отправляли для языковой практики ‒ сначала на месяц в стройотряд, а затем на первый семестр четвертого курса ‒ в Йенский университет. Вместо КГБ нас там опекало местное «Штази», которое делало нам замечания за слишком вольные критические высказывания на политические темы: «Не надо обезславливать СССР». Немецкие студенты, с которыми нас поселили в совместных комнатах, на нас стучали (на меня ‒ что я по ночам слушаю радио под одеялом, разумеется, я слушал не Москву). То есть в ГДР оказалось больше политической дисциплины и идейной сознательности, чем в СССР. Но никаких последствий не было, и мне там написали хорошую характеристику (копию дали на руки, но она, кажется, пропала с вещами в Алжире).
Однако результатом этой нашей стажировки стало то, что трое из наших студентов решили жениться на немках. В институте разразился скандал, их, правда, не исключили, но лишили стипендии. Следующую такую группу в ГДР уже посылать не стали…

Наша группа на занятиях в Йенском университете, 1973-1974 гг.
На четвертом курсе, по возвращении из ГДР, один из универсиадских гебэшников, назвавшийся «Евгением Трифоновым», неожиданно пригласил меня встретиться в гостинице, как оказалось ‒ для углубления взаимовыгодного «сотрудничества». Он поинтересовался моими планами распределения для загранработы (я этого не скрывал) и намекнул, что это надо заслужить у всесильного КГБ. Для меня это было шоком. В виде первого задания он предложил мне подсесть к иностранцу в театре и завязать с ним знакомство. Я отказался под предлогом своей необщительности, но потом он еще несколько раз упорно предлагал это по телефону. Я никогда не соглашался, а он не отставал и, наконец, предложил мне ближе познакомиться со студентом нашего факультета Евгением Соколовым. Меня всё это очень тяготило, но поскольку я уже тогда планировал побег на Запад через загранпоездку, то не хотел обострять отношения с КГБ и не стал отнекиваться, надеясь свое согласие обратить в его противоположность, и рассказал Жене об этом. В тот день мы с ним долго гуляли по арбатским переулкам: он любил и хорошо знал Москву. Так мы стали друзьями, и через него, «благодаря Трифонову», я попал в инязовскую антисоветскую компанию, ‒ это было лучшее мое время в инязе.
Помимо постоянных дискуссий о монархии и религии, нашим любимым занятием было, по выражению одного из нас, Юры Боголепова, «хабалить» (ругать) советскую власть (его исключили из института перед двумя последними госэкзаменами, с 1976 г. он эмигрант). На праздники на белых этикетках «Советского» шампанского я черной тушью (такие чернильцы были на столах в почтамте) добавлял к названию аккуратную приставку «Анти» таким же прописным шрифтом ‒ но все наши антисоветские деяния не шли дальше этого и смешных антисоветских надписей в туалетных кабинках. Впрочем, Женя «на картошке» снял любительский сатирический фильм про белых офицеров, бежавших из большевицкого лагеря (за что его потом тоже исключили из института, в эмиграции он долгое время работал вместе с Юрой на Радио Канада). Признаюсь, что я замышлял поджог институтского кабинета КГБ, предлагал пилить телеграфные столбы, чтобы навредить «совдепии» (так мы называли СССР), но эти глупости так и остались неосуществленными, меня отговорил отец одной из наших девушек ‒ Маши Залогиной. (Наш бывший друг из той компании Андрей Бессмертный, став в 1990-е годы эмигрантом в США и изрядным русофобом, в своих статьях рисует наш кружок «подпольных борцов с режимом» чуть ли не в революционных красках, но это всего лишь приукрашивание себя задним числом перед его нынешними американскими начальниками.)
Первый и единственный за всё время отчет для КГБ я написал после работы (ради заработка) на международной выставке в Сокольниках, на стенде западногерманской фирмы «Динакорд», производившей музыкальную аппаратуру. (Мне как бывшему гитаристу, кустарно мастерившему электрогитары, звукосниматели и усилители в техникуме и на Диксоне, также и эта электронная роскошь была интересна.) Я знал, что все подобные выставки тоже курируются специальными сотрудниками КГБ, которые требуют от переводчиков отчеты. Написал я его вместе со своим немцем (по фамилии Galneder), дав ему очень положительную характеристику (он потом иногда давал мне переводческую работу в Германии). Но больше брать такие подработки с западными немцами мне уже не хотелось. Проще было их получать через профсоюзы и научно-технические организации для работы с гэдээровцами: так я ездил в Ленинград со специалистами в сфере организации образования, переводил технический инструктаж по освоению импортного электронного оборудования, где никаких отчетов не требовалось, ибо «курица не птица, ГДР не заграница».
Заботы о желаемом распределении у многих начинались заблаговременно еще на четвертом курсе. Тем более на пятом усилилась и в деканате работа по распределению выпускников. Для нас из немецкого отделения наиболее вероятным было направление в ГДР (в т.ч. в Группу советских войск, но я как семейный с ребенком имел отсрочку от армии, по-моему так, во всяком случае молодых из нашей группы призвали туда лейтенантами, а меня нет: я так и остался лейтенантом запаса), поэтому я заранее попросил распределить меня с французским, надеясь, конечно, не на заманчивую капиталистическую Францию, а реальнее: на строящий социализм Алжир, где тогда требовалось много специалистов и переводчиков. В моем представлении оттуда можно было найти путь в Европу. Установил контакты с первым таким возможным местом работы, что-то связанное с нефтью, и мне пообещали, я стал ждать собеседования.
В декабре 1974 г. анонимной открыткой меня попросили позвонить в отдел кадров неизвестному мне «Николаю Васильевичу», но оказалось что это не по поводу Алжира: это был телефон приемной КГБ на Кузнецком мосту, куда меня вызывают для беседы.

Решив, что КГБ стало известно мое участие в нашем антисоветском кружке, я приготовился к «опале». Однако в приемной КГБ выяснилось, что мне предлагают после института идти в школу КГБ! Что-то мне показалось в этом предложении странным, учитывая мои постоянные отказы выполнять просьбы «Трифонова» и не особенную конспирацию (я со скандалами брал открепительные талоны по месту прописки, уклоняясь от «голосования», посещал выставки художников-нонконформистов, интересовался запрещенными книгами на пятачке книголюбов «у Ваньки Федорова» напротив Лубянки, вел в институте откровенные разговоры со многими, несанкционированно общался с иностранцами и даже с переводчиком посольства ФРГ Хофманом, с которым познакомился во время Универсиады и пару раз был у него в гостях). Но, видимо, КГБ был не столь всезнающ или не столь прямолинеен, как его себе порою представляют. Я с честным видом сказал «Николаю Васильевичу», что понимаю КГБ как военную структуру, а с военной дисциплиной не очень склонен связывать свою жизнь, мне и сейчас в институте не нравится, что придираются к моим недостаточно коротким волосам. ‒ Он усмехнулся и строго спросил: «А кем Вы хотите служить Родине?» ‒ Журналистом, сказал я…
(В отличие от назойливого изворотливого «Трифонова», «Николай Васильевич» был похож на прямой железный штырь… Услышал от меня «нет» ‒ значит нет, без уговоров: не достоин. И потому я не почувствовал антипатии к его железобетонной убежденности в необходимости каждому советскому человеку служить своей советской Родине, которой я служить не хотел… Такова была его упорная вера и служебный смысл жизни, а я столь же упорно стремился найти другой смысл, истинный… Потом я написал рассказик-зарисовку на эту «служивую» тему.)
В феврале 1975 г. меня сняли с должности старосты курса за строптивость (об уходе я заявил сам, не выдержав придирок нового молодого и глупого замдекана) и в частности из-за того, что я рекомендовал к назначению на стипедию «идеологически сомнительных» студентов (если не ошибаюсь, тех, которые 7 ноября в виде шутки вывесили красный флажок над пивным ларьком, за что заработали комсомольский выговор?). Я опасался, что это осложнит мое распределение в Алжир, но обошлось.
Видимо, и лубянский «Николай Васильевич» действовал по своей прямой линии: некоторое время спустя мне в институте предложили распределение журналистом в АПН. Я посетил это здание за кинотеатром «Россия» на Пушкинской площади. На этаже мне запомнился охранник-автоматчик, что мне не понравилось: фактически это было похоже на филиал КГБ. Предложили распределение редактором стенгазеты на гэдээровском круизном судне. Я отказался, пояснив, что немецким владею хорошо и его не потеряю, а мне хотелось бы сначала поработать со вторым французским языком, закрепить его, иначе я его забуду…
Так я, наконец, получил желаемое направление в Алжир на строительство металлургического комбината в Аннабе по линии Минмонтажспецстроя и генерального подрядчика стройки ‒ «Тяжпромэкспорта». Возможно, помогли в этом и некоторые институтские преподаватели.

Страничка из моего студенческого дневника с «дружеским шаржем» на «Трифонова», хотя на себя он тут вряд ли похож…
Понятно, что «Трифонов» воспользовался моими планами для взятия у меня подписки о сотрудничестве с КГБ. Мой отказ означал бы похоронить планы на загранкомандировку и на побег, и мне тогда пришлось, скрепя сердце, согласиться ‒ с твердым сознанием, что ничего конкретного не смогу по совести и не стану для КГБ делать. В моем жизненном представлении существовал «сияющий свободный мiр» где-то за советской границей, где царит «Истина», и обрести ее ‒ это главная экзистенциальная цель. (Я ее тогда, видимо, путал с идеалом Царства Небесного, о котором не имел представления.) Если бы этого иного мiра и связанной с ним жизненной целепостановки не существовало, я бы, несомненно, выбрал «опалу», ушел бы во внутреннюю эмиграцию: домик в деревне, сад-огород, пчелы… Несколько раз, в критических конфликтных ситуациях, я был готов к этому, хлопнув дверью и даже бросив институт… Но само существование таинственного западного «Царства Истины» как обязывающего задания приобщиться к ней, ‒ иначе для чего тогда жить? ‒ понуждало идти на временные компромиссы с местной ложью ради его достижения.
Я стал собственноручно писать обязательство под диктовку «Трифонова». Точный текст не помню: «Обязуюсь сотрудничать…» ‒ на этом слове я замешкался, и он сказал: «Если не нравится сотрудничать, пишите помогать…» ‒ я пишу «помогать», и он диктует дальше: «органами КГБ», я, сдуру проявляя свою грамотность, возражаю: помогать не «органами», а «органам» ‒ и так пишу. А ведь если бы я написал «помогать органами КГБ» ‒ кому я обязывался ими помогать? ‒ можно помогать и врагам СССР в качестве шпиона в КГБ… (Например, «Трифонов» тогда похвастался, что готовится задержание партии антисоветской литературы из Голландии, и я счел необходимым сообщить об этом студенту, имевшему знакомых в голландском посольстве.) Далее в тексте было обязательство не разглашать данную подписку, а свои донесения подписывать именем «Вальтер».
Разумеется, на реальное сотрудничество или помощь КГБ я бы никогда и ни при каких условиях не пошел бы. Поэтому дав подписку, я сделал неизбежным и последующий разрыв с этой конторой. О подписке, очень стыдясь ее и сразу же ее демонстративно нарушая, чтобы очистить свою совесть, я рассказал и в нашем антисоветском кружке, и некоторым в нашей институтской группе ‒ причем я был не один такой. Вообще выезд на загранработу был всегда обусловлен подпиской. Всем уже было ясно, что наша переводческая профессия автоматически связана с подобными обязательствами, и к этому многие относились с некоторым циничным «двоемыслием», не тяготясь им и считая, что позорно стучать на своих, а на иностранцев не позорно…
Замечу также, что в то время т.н. «застоя» и сам КГБ был подвержен общему разложению советской номенклатуры («железный штырь Николай Васильевич» был уже, наверное нетипичен). Так, порою наш антисоветский кружок собирался на квартире Николая Макарова, сына офицера КГБ, но папа лениво не препятствовал этому и лишь однажды «конфисковал» сделанную мною юмористическую стенгазету на новый 1975-й год, в центре которой красовалась голова Ильича в кепке со знаменитым приветственным жестом, помещенная в огромную воронку от взрыва с разлетевшимися комьями земли… Был в газете и мой «футурологический» прогноз о том, что вскоре у нас будут паспорта с орлами и львами… Всего о моем замысле бежать на Запад знало человек десять, но никто не донес. Почти все члены того нашего кружка разными путями тоже потом оказались на Западе, о чем все тогда мечтали. У нас для этого было выражение «взять ключ» (от франфузского фразеологизма: «prendre la clé des champs de la liberté» – взять ключ от полей свободы, т.е. вырваться из несвободы в свободу).
На моей защите диплома преподаватель Надежда Михайловна Минина указала сидевшему рядом Котелкину (он вел у нас технический перевод) на эпиграф на титульном листе моего дипломного перевода главы из романа Кафки «Америка»: «Автор мечтал о свободе и дальних странах»… Они переглянулись с улыбкой. Надежда Михайловна (которая принимала еще мои вступительные экзамены в институт) догадывалась о моих взглядах и по другим высказываниям во время занятий… Жаль, что я не установил с ней тогда более доверительных отношений, как и с некоторыми другими явно «несоветскими» преподавателями…
Алжир
В Алжир я взял с собой максимально возможный груз, половину которого (помимо консервов, их все везли для экономии инвалюты) составляли словари и другие книги, а также дорогие мне вещи: семейные фотографии, портняжные ножницы моего прадеда Рузина, дипломный перевод, некоторые рукописи… Надеялся это забрать с собой на Запад. Всё это пропало в Алжире…
Мой контракт был рассчитан на два года, за которые я хотел всё как следует обдумать насчет побега: надо ли так круто менять жизнь? Нет ли другого способа обретения желанной Истины? Но принимать решение пришлось срочно, в считаные часы.
Металлургический комбинат строился в селении Эль Хаджар (в 12 км к югу от Аннабы). Все советские строители жили в соседнем отдельном поселке Сиди Аммар из построенных для этого советских панельных домов ‒ всего несколько сот человек, преимущественно семейных, было много маленьких детей возраста Филиппа, а с учетом коттеджного участка для «элиты» в Эль Хаджаре ‒ всего на строительстве комбината было занято около тысячи командировочных из СССР, в основном квалифицированные рабочие и техники. Земляные и бетонные работы выполняли местные жители, а инженерный персонал на самой стройке включал в себя специалистов от субподрядчиков из Франции, Германии, Англии.

Пропуск на строительство металлургического комбината в Эль Хаджаре
Моим рабочим местом был вагончик на нулевом цикле строительства проволочно-прокатного стана: земляные работы, арматура, бетон, приходилось месить сапогами грязь. Вторым переводчиком в вагончике была Наталья Ефименко, выпускница педагогического факультета нашего института, которая, будучи незамужней, получила контракт всего на год.
Я быстро познакомился с иностранными инженерами, через которых намеревался заказать интересовавшие меня книги по философии, но почти все их обнаружил и купил в книжном магазине в городе. Вечерами иногда ходил к инженерам в гости, где мы откровенно обсуждали политические темы, интересовавшие меня о Западе, а их ‒ о жизни в СССР. Однажды в их компании я неожиданно обнаружил и Наталью. Удивившись друг другу как нарушителям советских правил поведения, мы рассмеялись и с тех пор больше ничего не скрывали и в наших беседах в вагончике, в том числе о замысленных нами побегах, хотя интересы и цели у нас были очень разные. У Натальи завязались любовные отношения с англичанином Рэем, который помог ей бежать из Алжира и потом стал ее мужем: если я правильно помню, то в конце ее годичного контракта, получив выездную визу (которую алжирцы давали только с санкции советского посольства), она взяла два билета на одно время вылета ‒ в Москву и в Лондон ‒ и в аэропорту, пройдя контроль, «перепутала» самолеты.
Разразился скандал, алжирцы по советскому указанию обвинили группу англичан, включая Рэя, в промышленном шпионаже (что, конечно, было чушью), а в наш поселок прибыла группа кагэбистов для расследования происшествия (почему-то командовал ими зубной врач из Аннабы). Вызвали для беседы и меня, как ближайшего коллегу Натальи. Естественно, я «ничего подозрительного в ее поведении не видел и вообще не интересовался ее жизнью». Но в связи с этим побегом другие сослуживцы заставили следователей поинтересоваться и моим поведением, поскольку они раскрыли мое нарушение режима и внеслужебное общение с иностранцами (меня видели с ними).
Как раз накануне этого побега Натальи мы (с женой и сыном) предприняли трехдневную поездку в Сахару вместе с немецким инженером Гердом Куртом на его автомобиле. Это было в нерабочие дни, кажется, в связи с 7 ноября. Соседям (нас жило две семьи в трехкомнатной квартире с общей кухней) я сказал, что мы погостим у московских знакомых в Аннабе. Но следствие решило это проверить, тем более что для столь длительной отлучки из нашего советского поселка полагалось брать разрешение.

Северный край Сахары: Гардая, ноябрь 1975
Утром в самом начале рабочего дня в мой вагончик приехал начальник «Тяжпромэкспорта» Рева и сообщил, что накануне у них было партсобрание, на котором обсуждали мое подозрительное поведение, и поэтому вскоре за мной приедут. Фактически он меня предупредил, ибо не стал меня расспрашивать и сразу же уехал, а приехал газик, доставивший меня в администрацию строительства. В коридоре я столкнулся с одним из начальников (кажется, его звали Бровин ‒ это он на нас донес), который набросился на меня, требуя объяснений. Я ему спокойно сказал, что гостили мы у знакомых, о чем я уже всё объяснил товарищу Реве и сейчас направляюсь в отдел КГБ. А главному тамошнему чекисту Синопальникову также спокойно заявил, что «уже дважды объяснял всё ‒ сначала Реве, затем Бровину, и зачем устно всё повторять в третий раз, давайте я дома напишу объяснительную и завтра с утра принесу». Он меня отпустил писать эту объяснительную, но больше они меня не видели.
Я нагло попросил Бровина отвезти меня на стройплощадку для продолжения работы, но там я пошел к французскому инженеру-испанцу Эстебану Диазу, с которым особенно сблизился в политических разговорах, и попросил его забрать нас ночью из советского поселка с вещами. Дома собрал все купленные книги и альбомы и вернул их в городской книжный магазин, выручив 80% от их первоначальной стоимости. Как раз накануне выдали и очередную месячную зарплату за ноябрь. (Бухгалтерша ранее интересовалась, зачем я все деньги беру наличными, не перевожу на счет в банке, я ответил, что мы хотим купить тут автомобиль, как это позволяли себе некоторые наши специалисты, чтобы не зависеть об общественного городского транспорта и для выездов к морю в выходные. Так за два с половиной месяца накопилась некоторая сумма, на которую мы экономно жили весь следующий месяц в бегах.)
Было ясно, что нас отошлют в СССР и возможности выехать за границу больше не будет ‒ это, как и неисполнимая подписка КГБ, данная ради побега, которую поэтому и можно было «оправдать» только побегом, ‒ и побуждали меня к авантюрному риску: ведь покинуть Алжир легально было невозможно.
Мы оставили довольно глуповатое письмо: «Заранее приносим извинения за те хлопоты, которые мы вам доставляем, мы просто решили на несколько месяцев съездить в Европу. Просим не считать нас беженцами, невозвращенцами или эмигрантами ‒ просто это единственный способ для нас ознакомиться с западной культурой, со всеми ее положительными и отрицательными сторонами. Мы любим Россию, наших родителей, и не представляем себе жизни на чужбине; мы считаем, что жить на родине ‒ это такое же неотъемлемое право человека, как и право увидеть мир. Это не преступление, не измена родине: это лишь небольшое ознакомительное путешествие. До встречи в Москве. 5 декабря 1975 г.». Это был День советской конституции, празднование которого мы всей советской общине испортили…

Это переписанный вручную дубликат письма, который мы оставили себе
Разумеется, в этом нашем письме очевидна смесь маскируемой под простодушность наглости (ведь статья 64 УК СССР приравнивала к измене родине «бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР»), стремления хоть немного смягчить возможные неприятности у родителей, и была некоторая доля наивности, ибо я действительно намеревался и обещал жене, что примерно через год вернемся, рассчитывая получить за это лет пять лагеря, так как государственными секретами не обладал и выдать их не мог, а жена не виновата: муж ее с ребенком заставил силой. Предполагалось, что она вернется беременной, что избавит ее от лагеря… И к тому же я считал, что в скором времени маразматика Брежнева снимут и начнется либерализация наподобие случившейся позже «перестройки»… Ошибся я на десять с лишним лет. В действительности всё и на Западе у меня получилось иначе, но об я уже писал.
Итак, Эстебан Диаз, получив благословение от своего католического священника, забрал нас в час ночи (соседям мы сказали, что переезжаем в коттеджи для специалистов) и два дня прятал нас у себя, но что делать дальше ‒ было неясно. Покинуть Алжир с советскими паспортами мы не могли. Перейти тунисскую границу в пустыне, как предлагал Эстебан, я бы решился, если бы был один, но с ребенком было рисковано. Оставаться же дальше в его доме было опасно и для него, так как нас стала искать алжирская жандармерия, а Натальиных англичан уже арестовали ‒ это ему стало известно на стройке. Немец Герд Курт, посовещавшись с другими инженерами, сказал, что попробует помочь посредством своего посольства, тем более что я выбрал своей целью Германию и хорошо знаю немецкий; он слетал в столицу, но привез оттуда уклончивый ответ: пусть приезжают, хотя и ничего не можем обещать. На третий день Эстебан посадил в машину вместе с нами всё свое семейство (жену и троих маленьких дочерей), оставил в своем доме включенным свет, имитируя присутствие, и отвез нас за 600 км в Алжир прямо к немецкому посольству. (В том же месяце он с семьей перебрался во Францию, сменив место работы, к сожалению мои вещи он не вывез, передал немецким инженерам и потом говорил мне, что они, наверное, всё сожгли… Особенно жаль было потерять памятные вещи: фотографии и арктические дневниковые записи.)
Там нас приняли, но упрекнули: «сначала надо думать, а потом уже бежать», сказали, что должны посоветоваться с начальством в Германии, а мы должны прийти снова через неделю. Мы жили в самых дешевых грязных гостиницах, постоянно меняя их, причем, зная, что нас ищут, я заполнял регистрационные формуляры, ставя в графу фамилия свое имя (а значит в картотеку нас ставили на букву М) или выдавал в своей тогдашней фамилии ПАХОМОВ русские буквы в паспорте за латинские, опуская в первой букве палочку чуть ниже, получалось: НАХОМОВ (произносилось по-французски как Хаксомоб), и не особенно грамотные арабские служащие помещали нас в гостиничной картотеке не на латинскую букву Р (Pakhomov), а на букву Н. (хотя этот прием удавался не всегда).
Но и неделю спустя решения у посольства еще не было, поэтому я решил искать выход самостоятельно, двигаясь вдоль побережья на запад и проникая морские порты, надеясь договориться с европейскими капитанами за плату. Один даже был готов взять нас, грек, но вид у него был слишком уж пиратский, как и у его команды, так что рисковать женой и ребенком я не стал. Затем мы полетели в Оран к марокканской границе, где в ее переходе я надеялся на помощь французского инженера, знакомого Натальи Ефименко по работе на нашей стройке (она мне оставила его адрес). Но в это время разразилась война между Алжиром и Марокко, француз очень испугался и помощь не оказал. Мы вернулись самолетом в столицу.

Алжир, г. Типаза, на древнеримских руинах. Ноябрь 1975 г.
Посольство к этому времени получило из Германии «добро». В то время Холодной войны беженцев из СССР на Западе принимали более чем охотно. В посольстве мне посоветовали поступить следующим образом: обратиться в алжирскую полицию как немецкому туристу с заявлением о краже-пропаже всех документов и получить об этом справку. На основании этой справки посольство законно выдало нам временные документы как немецкой семье Weber, на которые мы могли получить выездные визы. Консул Маас в шутку сказал, что поскольку я хорошо владею немецким, посольству приходится доверять соотечественникам. Для этих документов мы изменили прически и сделали фотографии, не слишком похожие на фото в советских паспортах.


Frau Weber und Herr Weber. Алжир, декабрь 1975 г.
Эти временные документы мы подали в соответствующую алжирскую службу для получения выездных виз, нам было сказано прийти через несколько дней.
Решили дожидаться в столице, так как деньги на переезды кончились. Я продал на рынке радиоприемник и электробритву. В последнее время мы питались в основном мелкой рыбой, которую в портах жарили в котлах с маслом, заедали ее лепешками, мандаринами и финиками ‒ это была самая дешевая еда. В последнее посещение посольства нам выдали 300 динаров на гостиницу, полагаю, из личных денег самого консула. В гостинице за завтраком в ресторане мы неожиданно оказались рядом с моим начальством из Москвы, которое, видимо, направлялось в Аннабу, но оно сидело к нам спиной и меня не заметило, а мы быстро взяли еду в номер и затем съехали.
Наконец, мы поселились в зашарпанной гостинице «Es Salam» в комнате с маленькими добрыми мурашками и безстрашным мышонком. Заболел почками сын Филипп. Лекарства у нас были заблаговременно запасенные советские, но при ухудшении его состояния пришлось бы обращаться к врачу. В предвидении более холодной Германии я купил баранью шкуру и сделал ему телогрейку. Ситуация грозила стать критической, и не скрою, что к исходу декабря мое психологическое состояние было почти сюрреалистическим: происходившее казалось невероятным сном, жена всё время плакала (конечно, ей было труднее всё воспринимать, чем мне), а я, как заведенная механическая игрушка, усилием воли надев на себя шоры для отсечения всего постороннего, продолжал начатую рискованную игру, которую нельзя уже остановить ‒ иначе зачем я давал позорную подписку КГБ…
Приведу последние страницы из своего тогдашнего дневника (прошу прощения за трудность чтения, но не буду перепечатывать):




У одной из алжирских гостиниц
Последняя гостиница, 28 декабря, была с символическим названием Hotel Terminus et d’Europe ‒ можно было применительно к нашей ситуации перевести как: «Конец (нашим мытарствам) и Европа». Но все эти последние дни прошли в напряжении еще и из-за такого опасения: ведь алжирские власти проверят, что немецкая семья Weber в страну не въезжала, и меня заберут прямо в визовой конторе. Так непременно было бы в СССР. Но алжирцы проверять поленились: визовые штампы были датированы днем подачи наших немецких документов.
29 декабря 1975 года консул Маас наблюдал за нашей регистрацией в алжирском аэропорту на рейс швейцарской компании во Франкфурт, в зале я также заметил пару человек, как показалось, не европейской внешности, один их которых кивнул на нас, мол, вот они. Интересно, кто это мог быть? Консул, не общаясь с нами, долетел в том же самолете до Франкфурта, где передал нас встречавшим чиновникам и забрал временные документы семьи Weber. Мы вновь превратились в Пахомовых с советскими загранпаспортами, действительными на пять лет, с которыми предполагали жить в Германии. На вопрос, куда мы хотим направиться, я назвал Мюнхен (в моем представлении самый антисоветский город), и нас сразу же повезли туда на автомобиле.
Германия
Однако выдать нам разрешение на жительство с советскими паспортами, как я надеялся, немцы отказались, несмотря на наши ссылки на Хельсинское соглашение об «обмене идеями и людьми», и сказали нам, что медицинскую помощь сыну могут оказать только при подаче нами заявления на политическое убежище. В противном случае нас отвезут к австрийской границе, а там будет то же самое с перемещением нас далее в СССР. В Мюнхене мы подали на убежище и, к своему удивлению, я получил вместе с ним пособие по безработице из расчета алжирской зарплаты. Жить под мостами не пришлось (к чему я изначально был готов, мастеря сыну телогрейку, вез с собой и остатки шкуры, ответив удивленным немецким таможенникам, что из них можно сделать тапочки)… Кое-что дополнительное об этой алжирской эпопее мною было уже описано в главе 2 первого издания книги «Миссия русской эмиграции», вышедшего в Ставрополе в 1992 году.
Добавлю еще, что несмотря ни на что вспоминаю о нашем институте ностальгически и тепло. К тому же моя переводческая квалификация и предыдущее техническое образование пригодились мне в Германии для заработка, обезпечивавшего содержание семьи (уже с тремя детьми) и независимость. Я отказался от предложения работать в штате американского Радио «Свобода», предпочтя ей бедный эмигрантский «Посев», но и там оставался до тех пор, пока расхождения с руководством не заставили меня в 1987 году стать свободным журналистом.
Октябрь 2020 г.
(Раз уж я в начале дал подзаголовок о своей переводческой биографии, потом к этому в виде приложения я хотел бы добавить еще немного размышлений об онтологической основе перевода, особенно художественного, в связи с моей достаточно непростой дипломной работой: он должен отражать бытийственную сущность содержания, а не просто языковую форму.)
Представление о дальнейших этапах моей жизни и деятельности на Западе и о возвращении дают публикации:
«Сова Минервы вылетает в сумерки…» Опыт философской автобиографии
НТС в эпоху крушения коммунизма. Как и почему я вышел из НТС (1992-1993)
«Миссия русской эмиграции». Гл. 25 (часть 2). Возвращение. Путем зерна
Источник: https://rusidea.org/250958163



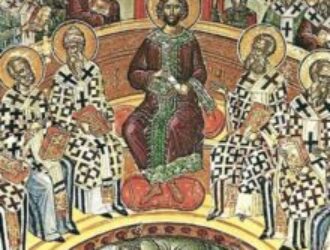
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.