НАБРОСКИ
Д-р фил. Н. А. РЕЙМЕРС.
1.
 В основу одной из моих работ: «Свобода и Равенство» {№ 41 журн. «Путь», Париж, 1933 г.) положена та мысль, что в жизни встречаются умы разного типа, причем это внешне качественное различие по существу является различием количественным, а именно — в степени одухотворенности индивидов и в высоте того места, которое они занимают на лестнице развития. Там же я намечаю, для примера, три таких типа качественно различных умов, из которых в объективном плане каждый последующий выше и ценнее предыдущего: ум бойца («Аттила»), ум коммерсанта-инженера («Форд») и ум философа-ученого («Кант»). Я даже выразился в том смысле, что хотя Форд напр., и Ньютон, оба по-своему умные люди, однако, следует признать, что, как тип мышления, Ньютон «умнее» Форда, т. е. он выше стоит на лестнице развития и в большей степени является субъектом познания, нежели упомянутый американский конструктор.
В основу одной из моих работ: «Свобода и Равенство» {№ 41 журн. «Путь», Париж, 1933 г.) положена та мысль, что в жизни встречаются умы разного типа, причем это внешне качественное различие по существу является различием количественным, а именно — в степени одухотворенности индивидов и в высоте того места, которое они занимают на лестнице развития. Там же я намечаю, для примера, три таких типа качественно различных умов, из которых в объективном плане каждый последующий выше и ценнее предыдущего: ум бойца («Аттила»), ум коммерсанта-инженера («Форд») и ум философа-ученого («Кант»). Я даже выразился в том смысле, что хотя Форд напр., и Ньютон, оба по-своему умные люди, однако, следует признать, что, как тип мышления, Ньютон «умнее» Форда, т. е. он выше стоит на лестнице развития и в большей степени является субъектом познания, нежели упомянутый американский конструктор.
По поводу всего вышесказанного невольно возникает несколько вопросов, а именно:
1) почему человеческая элита, состоящая, казалось бы, из умнейших людей вообще, заключает в себе представителей разных типов ума?
2) Каким образом качественные различия типов ума могут быть сведены к количественным?
3) Почему встречаются, напр., «инженеры» (как тип мышления), которых мы сами при ближайшем знакомстве поставим интеллектуально выше, нежели некоторых представителей чисто-теоретических ученых?
Я думаю, что все эти вопросы находят свое разрешение, если проводить различие между «морфологической» стороной ума и стороной «физиологической».
«Морфологическим умом» я называю качество ума человека, связанное с высотой места, занимаемого им от рождения на лестнице развития. Этот ум , носит, так сказать, расовый, наследственный характер, даётся при рождении и не может быть приобретен извне. Ум этот определяется не только качествами родителей, но и случайностью зачатия, так что даже у двух братьев он может быть разным. Он связан с анатомическим строением мозга индивида и с качественной высотой его нервной системы. В этом смысле, можно родиться уже философом, математиком, инженером, купцом или бойцом. Психологически, уже с детства это определяется х а р а к т е р о м непроизвольного интереса ребенка при созерцании внешнего мира, направленностью его внимания и, так сказать интенционностью всего сознании вообще. Один, почти от рождения, видит в мире только общие законы и случаи осуществления принципов; другой — считает объекты действительности; третий иди старается подчинить эту действительность споим целям или же — при ее помощи поработить других людей. Вот тут-то различие по качеству и может быть переведено в категорию количества: тот ум количественно больше и выше, характер непроизвольного интереса и внимания которого выше по существу, т. к. сводится к направленности на более общие и важные для познания вообще стороны жизни.
Очень часто указывают на то, что философы бывают иногда слабы в области математики, а математики с трудом осваиваются на деле с принципами биржевой спекуляций. Все эти случаи могут быть очень легко разрешены, приняв во внимание характер и направленность непроизвольного внимания у каждого из этих типов мышления. Совершенно очевидно, что для философов основные принципы математики не представляют больших трудностей, нежели для самих математиков; однако, недостаток внимания по отношению к этим проблемам и направленность его на более высокие сферы препятствуют философам плодотворно проявить себя в этой области. То же можно сказать и о математике в его отношении к биржевому маклеру.
Теперь представим себе человека, обладающего определенной степенью «морфологического» ума, и вникнем в условия, при которых этот ум может функционировать и проявить максимум своей полезной деятельности. Ответ на этот вопрос дают не только априорные соображения, но и опыт, который учит нас, что соответствующая данной морфологии (или анатомии) ф и з и о л о г и я должна быть тоже на подобающей высоте. Чтобы прекрасно организованный мозг мог дать то. Что в нём заложено, к нему должен быть достаточный прилив крови, и вообще вся функциональная сторона организма должна быть совершенна. Подобно тому, как очень тонко устроенный духовный инструмент остаётся почти безмолвным, если в него не будет поступать с достаточной энергией воздух, — подобно этому и самый умный от природы человек, в случае болезни или перед смертью, не может интеллектуально дать того, к чему он от природы способен. Это упомянутое выше совершенство в ф и з и о л о г и ч е с к о м о б с л у ж и в а н и и м о з г а со стороны организма я и называю «физиологическим» умом.
Этот «физиологический» ум, очевидно, дается тоже от рождения, но может тоже подвергаться значительным изменениям, в зависимости от болезней и образа жизни. Всем известно, что под влиянием недуга или распутной жизни можно, как говориться, «поглупеть», т. е. потерять память , быстроту мысли и т.д., хотя совершенно очевидно, что эти процессы не затрагивают того, что я выше назвал «морфологическим» умом. Эта моя мысль, по-видимому, зафиксирована и обычным словоупотреблением. В самом деле, ведь нарушение физиологии мышления вызывает «слабоумие», тогда как разрушение анатомии мозга и нервной системы производит «безумие». Возвращаясь к физиологической стороне мышления, нужно подчеркнуть и то всем хорошо известное явление, что прием, напр., наркотиков или же одержимость любовью, связанная с общим подъемом деятельности организма, — способны иногда изумительно обострить ум человека, поднять его остроумие и даже, по мнению Платона, хоть на момент сделать его поэтом. Не следует, однако, забывать, что даже под влиянием импульса жизни человек не перейдет того предела, который связан с его местом на лестнице развития и дается вместе с его «морфологическим» умом.
Теперь обратим внимание на очень важное обстоятельство, которое заключается в том, что от природы эти два ума (или две его стороны) могут встречаться у отдельного человека в самых разных комбинациях друг с другом. Можно, напр., от природы обладать высокой качественностью мышления (ум М) и в то же время, благодаря, скажем, болезненности, — очень слабой его физиологией (ум Ф); возможна и совершенно обратная комбинация. Человек первого типа будет обладать недостатком памяти и сообразительности, производить на окружающих впечатление тяжелодума и лишь в моменты улучшения самочувствия сможет подняться иногда до больших высот и даже создать бессмертные произведения. Люди второго типа — с посредственным умом М и умом Ф, находящимся в блестящем состоянии, — обыкновенно чрезвычайно остроумны, быстро мыслят и отличаются находчивостью, vifa а lа replique и т.д. — но никогда не поднимутся выше тривиальности. Это — типичные «первые ученики» или, как говорят, «способные» люди. Мне кажется, что к этому типу ума (ум Ф) следует отнести и Вольтера и Анатоля Франса, тогда как представителями другого типа (ум М), по-видимому, следует считать Канта и Монтескье. Если представители этих двух типов ума отдаются литературной деятельности; то обыкновенно обладатели ума М оставляют multum, sed non multa;
что же касается обладателей ума Ф, то чаще всего они в течение всей жизни невероятно шумят, оставляют после себя целые библиотеки своих произведений, содержание которых, если повыжатъ, можно свести к глубине чайной ложки.
Вот тут и дается разрешение всех поставленных выше вопросов. Становится совершенно ясным, что в жизни обыкновенно, за неумением разобраться в качестве мышления, под умом подразумевают просто физиологический ум. Этим объясняется также и то, что именно высокая «физиология», (а не качество) мышления выдвигает людей в элиту, т. к. для того, чтобы всю жизнь «плясать на под мостках», нужна прежде всего интеллектуальная энергия.
Этим же объясняется и необыкновенно низкая качественность мышления некоторых представителей этой элиты: они мыслят плохо, но охотно, много и упорно, — и невероятно при этом шумят!
2.
Если я правильно понимаю проф. Бергсона, то одна из его мыслей сводится к следующему: чем выше на лестнице развития находится организм , тем менее однозначно определена та реакция которая вызывается в нем воздействием определенной внешней причины. Это многообразие и дифференцированность реакции, как предполагающая «выбор» и образует, по Бергсону, то, что называется с в о б о д о й. Далее, по Бергсону, насколько я понимаю это разнообразие реакции связано с тем, что он называет «живым временем», т. е. как бы с осадком от всех предыдущих переживаний человека. Дриш называет этот же осадок «Historische Reaktionbasis», придавая ему то значение, что реакция организма на раздражение определяется, очевидно, всей предыдущей его биографией. По Спенсеру тоже указанная выше реакция тем дифференцированнее и качественно выше, чем богаче и разнообразнее индивидуальный и родовой опыт данной особи (т. е. ее биография и раса). В предыдущем параграфе, упомянутый только что р о довой опыт или расу я называю «морфологическим» умом, причем загадкой Жизни вообще является то, каким образом эти, лежащие в основе родового опыта, по существу, внешние, воздействия превращаются в течение веков во внутренний мир организма и образуют его «самость».
Если продумать хорошо высказанные выше соображения, то с совершенной очевидностью вытекает следующее: только высокоразвитый организм может различить самое идею от того следствия и реакции, которую она вызывает; другими словами, только тот обладает внутренней свободой, в сознании которого теоретический и практич е с к и й моменты строго дифференцированы. Если человек обладает полнотой внутренней жизни и стоит высоко на лестнице развития, то результат от знакомства его с определенной идеей определяется более характером его внутреннего Я, нежели характером и способом воздействия самой идеи. Выдающийся и свободный человек может из теоретического интереса познакомиться с любой самой изуверской, мыслью, и не стать от этого изувером. Если же, с другой стороны, идея проникает в сознание примитива, то его реакция на нее только в малой степени определяется внутренней сущностью его организма; результат детерминируется больше способом воздействия самой идеи и окружающими обстоятельствами — настоящими или предшествующими — и ни о какой «свободе» реакции организма не может быть и речи. Отсюда вытекает также, что не по отношению ко всем индивидам объективно-теоретическая идея является в полном смысле идеей; отсюда же следует, что существуют индивиды, по отношению к которым эта идея является д е й с т в и е м, а высказывание этой идеи при них часто является н е т е о р е т и ч е с к и м и з ъ я в л е н и е м, а п о с т у п к о м, — хорошим или дурным.
Если из всех этих .соображений извлечь максиму для всякого правительства, стремящегося осуществить благо своего народа, то этой максимой будет, очевидно, то банальное, но очень мудрое положение, что следует предоставить полную свободу науке, тщательно следя в то же время за прессой и направляя ее. Если уж (у черни) тому, что почему-то называют мышлением, и суждено раз навсегда быть определяемым извне, — то уже лучше, чтобы оно определялось правительственной властью, а не чем-либо иным!
Сколь мало чернь, т. е. большинство людей, способна подняться до теоретического {т. е. свободного) мышления, видно хотя бы из того бросающегося о глаза факта, что большинство людей (применяясь к своему собственному мировоззрению) о нравственных качествах какого-либо индивида судит обыкновенно по его словам, а об интеллектуальных — по его поступкам, хотя совершенно ясно, что нужно судить как раз наоборот. Этот по существу практический склад большинства людей, т. е. черни, очень легко проверить на опыте. Попробуйте в обществе выступить в защиту каких-либо извращений — и все сейчас же решат, что и вы грешите в этом направлении; что же касается, с другой стороны, деятельности тех людей, которые не достигли богатства, то большинство объяснит ее себе недостатком ума и умения, причем никому даже не придет в голову, что эти люди к богатству и не стремились.
Ко всему сказанному нужно прибавить следующее. Если мы возьмем человеческого примитива, т. е. представителя черни, то ни одно из теоретических качеств идеи не сможет повлиять на характер его реакции на нее; единственное, что может повлиять на эту реакцию — это чисто-внешнее обстоятельство частоты воздействия этой идеи. Мысль эту прекрасно понял Адольф Гитлер — большой знаток в этой области. Не создавая себе никаких иллюзий, он говорит, что любая идея, если ее упорно повторять, будет принята толпою за реальность. Да и мы сами, перед «Мюнхеном», могли легко убедиться, что большинство окружающих нас знакомых не только не обладают свободой духа, но являются прямо-таки автоматами, движущимися под влиянием прессы, подобно авиону без пилота — под воздействием волн Т.S.F. Вообще, внимательное наблюдение над людьми в эпоху упомянутого кризиса давало гораздо больше в смысле понимания» политической жизни, нежели ознакомление даже с целыми библиотеками соответственной литературы.
3.
Никогда не забуду того впечатления, которое произвела на меня одна статья г-жи X в одной «левой» газете. Эта статья была кажется озаглавлена: «Недостаток глазомера», и основная идея ее был, примерно, следующая: как, дескать, трудно судить о будущем! Эта мысль доказывается на примере двух левых «богов» известного адвоката У и писателя народника Z. Г-жа X высказывается в том смысле, что «на что уж умные люди», однако, один из них в Государственной Думе, а другой после посещения Рейхстага — выразились, примерно, следующем стиле: «Самоуправление (в России и Германии) такое завоевание, что никакие силы не смогут в будущем отнять его у народа». Однако, как с грустью принуждена констатировать г-жа X, от парламентов в обоих случаях остался кукиш.
Прочтя это, я почувствовал себя дурно, т. к. невольно задал себе вопрос: откуда эта, в данном случае, мягкость выражений — «недостаток глазомера»? Ведь неспособность при рассмотрении материала различать с у щ е с т в е н н ы е черты от поверхностных и несущественных и неумение п о д в о д и т ь многообразие опыта под единый принцип — по-ученому называется недостатки способности суждения, а по-народному — просто глупос т ь ю.
Этот эвфемизм г-жи X был бы вполне простителен, если бы в нашем распоряжении не было других фактов. В самом деле, в старой России я, напр., помню очень много скромных и благожелательных людей, живших в деревне: дворян, помещиков и отставных офицеров. Эти люди искренно хотели реформ, улучшения быта крестьян и т. д., однако, на предложения «левых» ограничить императорскую власть в английском стиле или ввести в России республику, они только смеялись: «Да что вы, шутите: у нас — республику? Это совершенно невозможно! Вы, что же, хотите обратить Россию в Мексику? А знаете ли вы, что у нас, если умеючи взяться, и крепостное право вернуть можно, а вы — республику!» Этих людей обыкновенно называли (и в числе других, наверное, и сама г-жа X): обскурантами, мракобесами и т. д., однако, последующая судьба нашей страны и всего мира доказала совершенно обратное — и это следует подчеркнуть. Оказывается, эти скромные люди, не обладая никакой особой начитанностью, в самом точном, н а у ч н о м смысле оказались просто у м н е е, нежели все эти У, Z, г-жи X, вместе взятые. Эти скромные люди обладали тем, что я выше называю «морфологическим», творческим умом,’ тогда как переименованные «красные и розовые боги и полубоги» — только прекрасной физиологией мышления, которая помогала им всю жизнь «плясать на подмостках».
К этому надо прибавить, что среди «левых» вообще имеются случаи прямо-таки изумительные. Жизнь иного джентльмена — сплошная цепь интеллектуальных банкротств, а он все-таки, с железным упорством, цепляется за подмостки» и продолжает давать советы.
Эта цепкость и жизненность может вызвать даже своеобразное уважение — не в плане, конечно, человеческих достоинств, а по линии ч и с т о ж и в о т н ы х качеств:эти люди ведь
прекрасно знают, что на «подмостках» — не только аплодисменты, но и бифштексы. Всё же, мне кажется, наиболее достойным поведением для этих людей было бы следующее: стать на колени на перекрестке улиц и, подняв руки к небу, взывать к прохожим: «Добрые люди! Плюйте мне в бороду, старому «ишаку» — седому как лунь, и глупому, как колода!»
Кстати, часто применяемое выражение «революция доказала» не вполне точно. В самом деле, ведь со времени торжества освободительных идей» в России — ни в политическом ни в экономическом отношении — не произошло, строго говоря, ничего такого, чего нельзя было (в общих чертах» предвидеть так сказать « a priori», — что и на деле предвидели и предсказали те, кто были поумней.
4
Несколько лет тому назад, в одном обществе, я высказался в том смысле, что Великий Князь Кирилл Владимирович имеет все шансы занять престол своих предков, — что было бы чрезвычайно желательно, помимо всего прочего, уже хотя бы потому, что мнений — много, а «Готский Альманах» — один. Одна либерально настроенная дама при этом спросила меня с некоторым испугам: «Неужели, вы думаете, что возможно возвращение к старому?» Я ее немедленно успокоил, сказав: «Нет, сударыня, к старому, как вы его понимаете, возврат невозможен; при совершенном почти уничтожении в России культурного служилого сословия и при жутком понижении уровня народного правосознания, тот либерализм, напр., который был при покойном Государе — теперь совершенно не осуществим. Нечто в стиле Ивана Грозного или же Николая Первого — это еще куда ни шло!»
В самом деле, достаточно, напр., вспомнить об описанном Кони, в «Мемуарах», его принципиальном расхождении по вопросу о несменяемости судей с графом Паленом, с этим вельможей, который, очевидно, лично для себя ничего не хотел, так же, как и сам Кони, — чтобы понять высоту и тонкость правовой жизни до революции и ту пропасть, которая ее отделяет от теперешнего состояния.
В связи со всем сказанным, должен прибавить, что утверждение, напр., «левых», что они не согласны на восстановление прежней монархии, — у меня невольно вызывает улыбку. Получается такое впечатление, что, дескать, более «умные» устройства следует обсудить ,что же касается прежней монархии, то она всегда в нашем распоряжении. В течение 20 лет обращать в России «жизнь — в каторгу, а каторгу — в господствующее сословие», а потом, устав, сказать: «поиграли — и за щеку, вернемся к старому» — нет, это было бы слишком прекрасно! На самом деле, мы не должны забывать, что прежняя монархия, в правовом отношении, для нас теперь недостижимый и, так сказать, «трансцендентальный», идеал, нечто вроде регулятивной идеи. — а не реальность, которую взяли с полки и поставили на свое место.
Самое большее, что мы можем теперь сделать, это — учтя условия времени и происшедшие в России и в мире перемены — создать строй своим в н у т р е н н и м смыслом наиболее приближающийся к прежней России, заранее примирившись с мыслью что это все-таки только жалкое подражание; затем — когда «русский поезд» будет извлечен из оврага и, сильно побитый, поставлен на свои прежние рельсы, нужно постараться, чтобы Россия и впредь продолжала двигаться и развиваться в т о м ж е н а п р а в л е н и и, в каком она развивалась в течение предыдущих веков. На этот раз, однако, пришлось бы принять очень суровые предохранительные меры, чтобы хоть теперь гарантировать процесс н о р м а л ь н о г о развития России от нового вторжения в него «иноземцев» и «оголтелых» всех разновидностей — часто даже профессоров, но с интеллектуальным уровнем и историческим инстинктом аптекарского ученика.
К этому следует прибавить, что, по видимому, наиболее удачной реставрацией в истории следует признать английскую, при которой англичане действовали, примерно, по указанному мною рецепту. В самом деле, как бы основательно ни был уничтожен исторический строй, — его воспоминания все же живут в народном сознании — и в устной традиции, и на полках библиотек, и в памятниках старины. Поэтому всякое, даже несовершенное, его воспроизведение все же ближе народному правосознанию, нежели любой из продуктов индивидуального политического творчества.
9 февраля 1939 г. Париж.



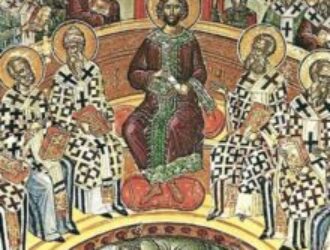
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.