 Дмитрий Васильевич Болдырев (20 апреля 1885, Российская империя, Санкт-Петербург — 12 мая 1920) — русский философ, последователь Н. О. Лосского, общественный деятель, участник Белого движения на Востоке России. Родился в Санкт-Петербурге в семье военного Василия Ксенофонтовича Болдырева. Братья — издатель Н. В. Болдырев (1883—1929) и филолог А. В. Болдырев (1896—1941), сестра Анна Васильевна Болдырева (Казакова) (23 апреля 1898, Барнаул — 22 мая 1969, Сидней, Австралия). (Из Википедии)
Дмитрий Васильевич Болдырев (20 апреля 1885, Российская империя, Санкт-Петербург — 12 мая 1920) — русский философ, последователь Н. О. Лосского, общественный деятель, участник Белого движения на Востоке России. Родился в Санкт-Петербурге в семье военного Василия Ксенофонтовича Болдырева. Братья — издатель Н. В. Болдырев (1883—1929) и филолог А. В. Болдырев (1896—1941), сестра Анна Васильевна Болдырева (Казакова) (23 апреля 1898, Барнаул — 22 мая 1969, Сидней, Австралия). (Из Википедии)
Идеология русской интеллигенции и Церковь
I
Русская интеллигенция, говоря ее языком, только что «переживает крушение всех своих идеалов». Что делать дальше? Неужели устремиться на поиски новых «идеалов», еще более «светлых», чем старые? «Намеренно добиваться способности блуждать в невидимом мире и созерцать его составляет огромную ошибку и есть поистине языческое деяние», — сказал один арабский философ (Ибн Халь-дун), живший в XIV столетии. Этому «языческому деянию» все время предавалась и наша интеллигенция: не веря в Бога, веровала в идеал. В какой идеал? Он мог быть разным, но всегда был «светлым». Как, говорили, вы не верите в светлое будущее человечества?.. Все реальное — Отечество, государство, Церковь, — что не исчезало от действия этого света, вопреки всем законам физики считалось за мрак. Так создавалась некоторая упрощенная разновидность парсизма, по которому мир представлялся борьбою идеалиста Ормузда с Ариманом реальности. Нельзя сказать, чтобы в этой борьбе Ормузд баловал свою рать победами: темные силы упорно не хотели рассеиваться. Надо удивляться, как при таких условиях светлая рать Ормузда продолжала хранить верность своему Богу.
И вот наконец в феврале 1917 года Ормузд одержал, казалось, решительную победу над Ариманом. Вскоре явилось и воплощение светлого Бога: Эсера, первая любовь революции, — словом, «светлая личность». Ныне Ормузд снова посрамлен и поруган. Этого нового, великого посрамления многие не выдержали, и началось отрезвление. Прокачавшись до тошноты по зыбям всевозможных фикций, наша интеллигенция как будто начинает испытывать хорошо известную мореплавателям тоску по твердой земле. Пространствовав столько лет по пустыням идеализма среди миражей социализма, она начинает нащупывать твердую почву — нации, государства, Отечества и, наконец, нечто очень твердое, очень жесткое — камень Петра. Но, еще не в силах ступить на него всей ногой, она только касается камня кончиком пальцев, поминутно отталкиваясь от него в воздушную «высь идеалов».
Что мешает ей встать на эту основу всего твердого, реального, воплощенного? Боязнь косного, неподвижного, мертвого и любовь к живому, свободному, как склонны многие думать, принимая твердость камня за мертвенность. Опасное и страшное заблуждение людей, лишенных зараз и обоняния жизни, и осязания ее плоти. А без этих чувств, в особенности без осязания, ничего нельзя понять в христианстве и Церкви. Ибо Церковь Христова есть благоухание святости и плоть воскресения. Для исцеления от идеализма нашей интеллигенции хорошо бы проникнуться духом Фомы Неверного: неверием в идеал и доверием к плоти реального. Тогда только «вольные сыны эфира» поймут истинную природу камня Петра. Они увидят, что его твердость, принимаемая за мертвенность, есть на самом деле признак ее кипучей жизненности. Камень этот подобен тысячелетнему древовидному папоротнику: лежит огромная неказистая глыба, какая-то скала, поросшая мохом, во всяком случае нечто на поверхностный взгляд неорганическое, и… зеленеет побегами.
Такова и Церковь: за ее внешней мертвенностью скрывается тысячелетняя жизнь огромной напряженности и уплотненности, которая действует не вспышками, но медленно, тяжеловесно и вечно, сама почти не изменяясь, но заставляя все кругом себя закипать. Поистине очаг мира, Гестия, пламенная и целомудренная Святая София, Премудрость Божия.
Каким духом питается, поддерживается и пышет этот очаг? Духом воскресения, то есть величайшего напряжения, сгущения и воплощения жизни. Воскресение, то есть непрерывный напор жизни, — вот начало и корень христианства и Церкви. Каждый приблизившийся к ней испытывает этот напор, а святой испытывает его в наивысшей степени. Поэтому можно сказать, что святость есть приближение к состоянию воскресения уже в условиях этой земной жизни. Измождение плоти, экстаз, погружение в глубину созерцания — словом, умирание святого есть только момент в развитии святости, которое совершается по закону «Ничтоже не оживет, аще не умрет». В это время душа святого как бы уходит к источникам жизни, чтобы затем хлынуть вместе с ними благодатным потоком в тело, наполнить его до краев и, не вместившись, распространиться кругом него нимбами чудотворений и исцелений, возрастающими в напряженности по мере приближения к телу святого. Наше тело при жизни есть только дряблый и уже истлевший плод, оторвавшийся от своей ветки. Тело святого настолько напряжено жизнью, что и после смерти не порывает с ней связи, сохраняясь поэтому долгое время нетленным.
Поклонение мощам не есть, следовательно, какая-то странная некромания, как многие думают, но есть чудесное выражение христианского эроса жизни, который не может довольствоваться одним только почитанием памяти мертвых «Почтим память умершего вставанием» или: «Он умер, но память о нем жива» — как это безжизненно и пусто по сравнению с культом мощей! Эти жалкие фразы могли создаться лишь в пустынной среде нашего идеализма. Напротив того, мощи — это мощь жизни, возможная лишь в среде и очаге воскресения. В самом деле, если отрешиться на минуту от придирчивой критики, которая гусеницей ползает по стволу церковного дерева, примечая все зазубрины и шероховатости его коры, его седины, то больше всего поражает в Церкви необыкновенная мощь ее жизни. Мировая история Церкви подтверждает это, но решительней всего говорит об этом наша русская современность.
В самом деле, в то время как школа разрушена, судебные установления сметены, Учредительное собрание разогнано, Церковь стоит; мало того — подобно раковине, створки которой хотят насильно раскрыть, обнаруживает изумительную силу сцепления своей плоти и чисто организационную способность восстанавливать разрушенные ткани, силу реинтеграции на языке биологии, силу воскресения на языке Церкви. И это в то время, когда Церковь как будто превратилась в безжизненную окаменелость, готовую разрушиться от внешних ударов. И вот оказалось, что это окаменение коснулось только ее покровов, только раковины, заключающей в себе мощь жизни.
Так вот какова природа этого «камня»! Это, по выражению апостола, — «живой камень», своего рода конденсатор жизни, вокруг которого, в сущности не смолкая, происходит как бы тихая буря. Все легкое и сухое не может приблизиться к этой буре. Для этого оно прежде всего должно потяжелеть. В противном случае оно обречено носиться по кругу, подобно теням Дантова ада. «Идеализм» — таково имя этого круга, в котором столько лет мучаются души русских интеллигентов. Кто подготовил им это печальный удел? На это можно ответить одним словом: школа.
Оставляя в стороне казенную школу, которую достаточно изобличали, а также духовную школу, которой просто пренебрегали, обратимся к высшему достижению нашей педагогической мысли — к школе образцовой, истинному рассаднику идеализма. Чем она хочет быть и что есть?
Наша образцовая школа возникла из протеста против «формализма и бездушия» казенных учебных заведений и, следовательно, ставит себе целью быть содержательной и живой. Достигла ли и может ли она достигнуть того и другого? И, прежде всего, имеет ли она какое-нибудь определенное содержание, которое бы вливалось в пустые формы педагогических методов? Несомненно, что старая казенная школа имела вначале определенную цель: создать совершенных чиновников. Все качества и штрихи, потребные для созидания этого скромного идеала, преподносились ей в виде некоторого бытового типа или лица и составляли, так сказать, ее педагогический догмат. Есть ли какой-нибудь догмат у образцовой школы? Его не только нет у нее, но его отсутствие всегда составляло даже ее особую гордость. Образцовая школа вменяла себе в особенную заслугу, что она аполитична, не национальна, не конфессиональна — другими словами, лишена всякого конкретного содержания, которое бы воплощалось в лицах, в делах, в быте, в подвигах. Словом, она — скучный роман без героев. В нем нет и не должно быть ни одного живого образа, которым можно было бы плениться, которому хотелось бы подражать.
А ведь подражание — начало не только воспитания, но и знания: чтобы познать какую-нибудь идею, даже самую отвлеченную, надо ее разыграть, то есть воплотить в своей душе и в своем теле. Между тем современная школа принципиально отказывается дать своим питомцам канву какой бы то ни было драмы и схему какой бы то ни было роли. Отстраняясь от всякого религиозного, политического, национального содержания, то есть, в сущности, от того, чем только и живет человек, она не может воодушевиться и воодушевить ни Бернаром Клервоским1, ни Мининым, ни Наполеоном. Как в панораме, проходят в ней эти образы в нейтрально безжизненном освещении. Боясь тенденциозности, боясь стеснения индивидуальности, образцовая школа ставит своей задачей создать «свободных людей», «полезных граждан», «людей самодеятельных», «трудоспособных», «гуманных» и, не замечая, впадает в чудовищный формализм. Где, когда, в какой стране, в какую эпоху воплощался этот совершенный и безжизненный «свободный, полезный, трудоспособный, самодеятельный и гуманный человек»? Не имея никакой исторической плоти, он существует исключительно в царстве бесплотного.
Этот свой бессодержательный формализм образцовая школа готова считать чуть что не «староверием», напротив, полагая в его тенденциозности старого обучения. Но возможно ли растить живую душу, которая суть не что иное, как тенденция к воплощению, без всяких тенденций, то есть без воплощающихся идей? Сама по себе «тенденция», то есть произрастающее в душу и тело идейное семя — очевидно, не зло, так же как и свобода, трудоспособность, самодеятельность и т. д. сами по себе еще не добро. Весь вопрос, значит, в том, какие тенденции, какие семена растить в труде и свободе и в том, где искать житницу достаточно полных и цельных семян. Увы этой житницы нет в нашей школе. То «разумное, доброе, вечное», что она считала своим призванием сеять, в сущности, не есть семена, но скорее фантомы и ветры, которые, как и следовало ожидать, взошли над нашей равниной призрачными и безумными бурями: «Мчатся тучи, вьются тучи…» Весь воздух полон немощными, но пугающими привидениями: «викжелями», «совдепами», «пролеткультами». Напрасно думать, что все эти бесплотные и бесплодные призраки вышли из недр народных. В тело народное они только вселились, изошли же они, как из бутылки волшебника, из пустоты отвлеченного идеализма, точнее — формализма нашей средней и высшей Школы. Пустота есть неизбежное следствие ее сомнительной привилегии быть вне национальных, сословных, церковных — словом, вне всяких живых тенденций.
Впрочем, ее свобода от тенденциозности существует больше в теории. На деле она столь же тенденциозна, как и старая школа, с той лишь разницей, что ее тенденции непоследовательны. И хилы, туманны — и потому особенно вредны. Эта тенденциозность нашей средней и высшей школы особенно сильно сказывается в том стиле и тоне, в каком она преподносит своим питомцам историю.
С точки зрения тех понятий, которые составляют молчаливую предпосылку всего нашего школьного обучения, история есть процесс без начала и конца, без смысла и цели. Но стоит раскрыть любой учебник из «образцовых» или университетский курс из «солидных», чтобы почувствовать в нем привкус какой-то телеологии, неопределенной, но явной, которую невольно вкушаешь вместе с фактами, там изложенными. Трудно очертить ее в ясных и точных словах. Но выходит как будто так, что вся мировая история носит и в великих муках рождает из тьмы предрассудков какое-то светлое существо, какую-то «свободную личность», подобно тому, как «от Невы и до Ташкента вся Россия ждет студента». Но так как мировая история соткана из насилий, из завоеваний, и в особенности из «религиозного фанатизма», то для чающих рождения «студента» она, в общем, представляет довольно печальное зрелище, способное вызвать к себе лишь очень вялое отношение. Особенно безотрадно средневековье. Вся первая половина его — один сплошной мрак. Мрак окутывает золотую Византию и делает ее тусклой. Зеленое знамя пророка кажется серым. Семь крестовых походов проходят безжизненно и печально, как семь похоронных процессий. «Расширение умственного горизонта» и «влияние на рост городов» — единственное утешение, которое они оставляют.
Казалось бы, что может быть прекрасней и увлекательней этой ранней весны христианского человечества? Однако есть такой странный глаз, которого и весна не радует. «Весной очень грязно, Сергей Никанорович», — как говорил один из героев Чехова. «Средние века суеверны», — говорит нам преподавание в школе. И правда — что хорошего? Схоластика угнетает ум, аскетизм — тело, сеньор — виллана. Баны — анафемствуют. С благодарностью улавливает глаз в этом мраке такие явления, как Фридрих II Гогенштауфен2. Нужды нет, что этот император — кощунник, богоборец и клятвопреступник. Зато он изучил зоологию и анатомию, а главное — борется с темными силами Церкви. Конечно, один в поле не воин, эта слишком рано прилетевшая ласточка принуждена пользоваться для своего полета стихией летучих мышей — мраком суеверий и предрассудков. Но чем ближе к новому времени, тем заметней растут «ряды борцов за светлое будущее человечества». Марсилий Падуанский3, Вильгельм Оккам4, Кола ди Риенцо5, Уот Тайлер6, Уиклиф7, Гус — все это несомненные предтечи «светлой личности» и «светлого будущего». Возрождение и Реформация — первый громовой удар, освобождающий человеческий гений из церковной темницы. Но темные силы не дремлют; и опять начинается мрачная полоса истории — католическая реакция. Католики удивляют мир коварством и кровожадностью, протестанты — благородством и кротостью. Трудолюбивые гугеноты — дети света — изнемогают в неравной борьбе с ленивыми испанцами — исчадиями мрака. «Яйцо», спасенное гуманизмом и высиженное Лютером, явно раздавлено вместе с птенцом, который не успел опериться.
Но философы Англии и континента уже снесли новое яйцо, которое и подкладывают под крыло просвещенного абсолютизма. Со страшным треском оно наконец лопается под своей беспечной наседкой: как скорлупа, разрушаются стены Бастилии, и… появляется «светлая личность», которая торжествующе летит навстречу вечному идеалу равенства, братства, свободы. В этой исторической феерии есть своя философия, своя телеология, нет лишь чувства исторической правды. А без этого чувства прошлое воспринимается бледно, абстрактно, а главное — в оторванности от настоящего. Отрезанные от прошлого, мы привыкаем со школьной скамьи чувствовать себя в пустоте времен, а пропитавшись духом школьного естествознания, ввергаемся, кроме того, и в пустыню пространств.
Естествознание с его экскурсиями, с коллекциями, с кабинетами, с фонарем с научными кинематографами и прочими ухищрениями есть любимое детище современной школы, ее гордость и предмет ее самых нежных забот. Оно явилось на смену «филологической мертвечине» и должно служить главным доказательством живого духа, царящего в этой школе. Но почему-то уже один вид этих коллекций, этих банок, этих кабинетов, этих таблиц и аквариумов наводит на свежую душу уныние и какую-то инстинктивную боязнь оскверниться прикосновением к ним.
Это чувство к безобидным приборам и препаратам покажется суеверным, но в основе его лежит глубоко верная мысль, что все эти орудия испытания природы, в сущности говоря, суть орудия пытки над ней, а кабинеты с фантастическими склянками и машинами — просто застенки.
Но вряд ли можно выпытать у природы ее тайну, то есть ее жизнь, ее душу. Если естествоиспытание и приближает к познанию жизни, то лишь в побочных своих отраслях, поскольку оно не пытает, но наблюдает ее. Большая же его энергия идет на экспериментирование, то есть на пытку, и, следовательно, на обнаружение не живого, а только мертвого. И чем глубже оно пытает, тем мертвее то, что оно обнаруживает.
Не находя основного и единственного предмета своих исканий — жизни, оно со спокойной совестью заявляет: вы видите — глубокий анализ показывает, что все живое есть в сущности мертвое. С этого момента оно не допускает и мысли, что, идя какими-нибудь другими путями, можно найти то, чего оно не нашло. Это для него уже, так сказать, вопрос чести.
И как бы от постоянного беспокойства, что кто-нибудь иной может в поисках истины оказаться счастливее его, оно становится самонадеянным, ревнивым, придирчивым, раздражительным — и в таком виде водворяется в школе, заражая молодые умы всеми своими неприятными качествами. Поэтому естествознание преподается в школе столь же тенденциозно, как и история. Все преподавание его направлено к одной цели: доказать непогрешимость науки.
Вместо того чтобы вестись в тоне смирения, в сознании малости и даже тщеты экспериментального знания, оно ведется в тоне самоуверенности и заносчивости. Не столько словами, сколько всеми своими повадками и манерами оно как бы говорит на каждом шагу: «Извольте убедиться: вот перед вами раскрытый мозг — и ни тени души. Самое большее, что в нем есть, — электричество. Но убедитесь, что и электричество не есть какая-то непонятная сила — это только вихрь материальных частиц». И от прикосновения магической палочки школьной науки вся природа превращается в какую-то атомную пыль, несущуюся по пустыням пространства, а все вещи живого мира — в мертвые кости, рассеянные по этой пустыне.
Другими словами, современная школа убивает в нас чувство оседлости, очага и превращает в каких-то кочевников по пустыням времени и пространства. От этого и вся наша деятельность перестает ощущаться нами как домостроительство, приноровленное к местности, к истории, к климату, и становится какой-то «игрой в формочки» из песка, покорного самым причудливым планам.
Так, желая быть содержательной и живой, современная школа творит каких-то пустынников, приспособленных к пустоте и беспомощных в полноте и спокойности мира, каких-то мертвоедов, приученных больше к мертвечине, чем к жизни, — не мужей, а каких-то вечных детей, экспериментаторов и формалистов, готовых из живой плоти истории, как из песка, делать всевозможные формочки.
Целая серия таких взрослых младенцев и экспериментаторов под именем государственных деятелей прошла и продолжает проходить перед нами, начиная с первых дней революции. «Сколько их, куда их гонит?» «Ибо, сами того не замечая, они не шествуют и даже не идут, а летят, гонимые вихрем, как отжившие листья, сорванные с древа истории» Как мало похож этот полет на твердую поступь государственных мужей! Государственные мужи — вот порода людей, которая стала редкостью на Руси. Отчего бы могла случиться эта беда? Ибо очевидно, что не может быть государство без государственных мужей.
И приходится сказать, что ответственность за эту беду падает прежде всего на нашу школу. Школа не может ставить своей задачей выращивать гениев, музыкантов, поэтов и проч. Не должна она творить и специалистов. Школа не зубоврачебные курсы. Но давать определенную закалку ума и характера, которая называется государственностью, — это ее прямой и, пожалуй, единственный долг. Может ли выполнять его наша школа? Ясно, что нет. Ибо главная добродетель государственного человека есть способность жертвовать частным во имя целого. А для этого ему нужно постоянно носить в себе дух целого, то есть прежде всего быть самому цельным. Но менее всего наша школа способна творить цельных людей.
Цельный человек, как из завязи, вырастает из полноты единой царственной мысли или догмата, который воплощается в нем и кругом него.
Следовательно, его внутреннее устройство по существу монархично и даже теократично. Наша современная школа вся направлена на ниспровержение «царя в голове». Провозглашая свою религиозную и национальную адогматичность, она на место царственных идей, таящих в себе необычайную мощь воплощения, как Церковь, Отечество, нация, ставит ряд немощных фикций, неспособных к воплощению вовсе. Таков уж закон: кто чурается плоти реальной, тот попадает в плен к фикциям вроде «прав человека и гражданина», «Верховного Существа», «Человечества», «науки», «прогресса», «гуманности» и т. д.
Русский ум, такой здравый, простой и ясный, ныне переживает это пленение. Он верит во «всеобщее избирательное право», в «республику», в «равноправие», в «народ», в «социализм», в «международный пролетариат», в «интернационал», в «Циммервальд» и в прочие суеверия. Все эти химеры, которыми обсажен нам ум, вытекают из одной главной — из мнения, что человек есть ангелоподобное существо — чистое, бесплотное, так сказать вполне спиритическое, и поэтому не требующее ни дисциплины, ни насилия, ни принуждения. Вся наша новейшая школьная система построена на этом пагубном мнении. Косясь на монастыри, от которых могла бы многому научиться, она сама, как это ни странно, только и делает, что воспитывает людей в своеобразном «ангельском чине», то есть, в сущности, в полном бесчинстве.
В самом деле, населяя умы фикциями, неспособными к воплощению, эта система отсекает идеальное от реального, которое разом становится лишенным целостности и полноты, то есть души. Такое бездушное реальное трудно любить. Еще труднее в нем действовать. Оно представляется смутным, безжизненным, непонятным. Так с самого начала в душе закладывается как бы априорное недовольство всем окружающим, тягостное чувство разобщенности с ним, то есть неврастения. Пьер Жане8 очень метко характеризует этот душевный недуг как оскорбление чувства реального. «Больные действуют хорошо, — говорит он, — но только при условии, когда это действие не имеет значения, не имеет никакого реального эффекта. Они могут гулять, болтать, но как только акт становится важным и, следовательно, реальным, они теряют возможность действовать». (Жане Пьер. Неврозы. Рус. пер. С. 284)
Они испытывают упадок «психической напряженности», по словам того же психолога. Отсюда — свойственное им чувство «неполноты», «недоделанности», «незаконченности большинства операций». Отсюда и постоянная неудовлетворенность реальным, которая есть не что иное, как хроническая недовоплощенность души, истощенной немощью фикций.
Неврастения, следовательно, кроме физиологических условий имеет и метафизический корень. Он — в разобщенности души с полнотой как напруженной духом воплощения — воскресения, в отсутствии догмата, по выражению одного представителя русской медицинской науки; кратко говоря — в отсутствии Бога в душе. Только переживая реальный мир как непрерывное воплощение творческой полноты, воспринимаем мы его в духе и истине, то есть в целостности и теплоте жизни. Все реальные вещи представляются нам тогда плодами, зреющими на невидимом древе и с него опадающими.
Когда же мы перестаем ощущать в себе силу этого древа, этого роста, напрягающегося плодами, то начинаем воспринимать реальное не как крону в аромате и полноте, а как сухую листву в раздробленности и пустоте. К такому дробному миру возможно испытывать только дробные же привязанности и антипатии, но нельзя принимать его целостно, целомудренно, то есть любить.
Любовь заменяется тогда фетишизмом, то есть автономией каждого чувства — словом, бесчинством и неврастенией.
Наша так называемая революционная демократия и есть неврастения. И об этом мнимом царствии Божием можно, следовательно, сказать, так же как и об истинном, что оно внутри нас (с той лишь разницей, что берется оно не силой, а бессилием). Задолго до того как проявиться в социальной форме, эта болезнь (демократия), принятая почему-то за выздоровление, в форме индивидуальной усиленно культивировалась современной школой неврастенической. Но, скажут, в ее распоряжении имеется могущественное средство восстановлять внутреннюю дисциплину, поднимать напряженность духа, прогонять неврастению. Это — спорт.
На спорт наша современная школа возлагает надежды не меньшие, чем на естествознание. К счастью, в своем увлечении спортом она только жалкий сколок с западноевропейского образца. Там спорт давно возведен в степень вероисповедального культа.
«Тело, — пишет один француз в статье «Религия тела», — занимает в современной жизни место, которое раньше занимала душа… Гимнастика имеет значение, которое раньше имела теология. Мускульные упражнения заменяют нам и утренние, и вечерние молитвы. Наши великие спортсмены — наши святые… Повсюду ищут принципы телесной жизни и так же, как раньше определяли догмы; а конгрессы, устанавливающие правила для мускультуры, играют ныне роль церковных соборов…»
Хотя, по словам Леона Блуа, который приводит этот курьезный отрывок в своей работе «Au Seuil de L’Apocalipse», «глупость его автора незаурядна», тем не менее суть дела изображена им с большой силой и точностью.
Этот глупейший импульс начинает проникать и в нашу страну, становясь от этого еще более странным. Не последнюю роль в его распространении играет наша образцовая школа, которая украшает его ореолом легенды, исторических извращений и вздорных теорий. Особенно охотно прибегает она к античным воспоминаниям. Бесцельный бег взрослых балбесов называет она марафонским бегом; кривлянье под музыку — возрождением пифагорейства; остервенелую травлю мяча — олимпийскими играми; расквашенные носы — суровостью спартанского воспитания. Забывая при этом, что марафонские бега были подвигом спасения родины, пифагорейские ритмы — проникновением в душу и тело мистерий, олимпийские игры — священными играми, спартанское воспитание — религией государственности.
Словом, гимнастика древних была действительно гимном богам и воплощением важного религиозного содержания.
Спрашивается, какой догмат, какое религиозное или государственное содержание воплощает наш спорт? Какие мистерии выражают эти припрыгивающие и приседающие юнцы и девицы? Какого бога прославляют эти клоунские одежды, эти мяса, обтянутые фуфайкой?
Смешно воскрешать у нас религию древних эллинов. Но еще нелепей уподобляться им телом, оставаясь чуждыми их духу.
Не имея никакого религиозного смысла, наше увлечение спортом лишено и всяких национальных корней. Стараясь подражать телу эллинов, спорт совсем не приспосабливает нас к делу нашей страны — к ее природе, к ее дорогам, к ее лесам, ее полям, к ее быту.
Многие из этих белых и пестрых юношей в жетонах и шрамах держали косу в руке? Многие ли из бегунов ходили на богомолье? Многие ли из яхтсменов приставали на своих яхтах к Валааму и Соловкам? Многие ли прыгуны прыгали по кочкам и гатям наших болот? Всем своим обликом — своим порядком, своим жаргоном, своими орудиями — эта спортивная клоунада представляется какой-то насмешкой над природой и бытом нашей страны.
Наивно потому думать, что на спортивных площадках может накапливаться какая-то национальная и гражданская крепость. Эта голоногая братия при всей мясистости своих ляжек и бицепсов в сущности чрезвычайно бесплодна и есть одно из курьезных явлений интернационального санкюлотизма.
Не воплощая никакого высшего содержания, не служа даже целям простого приспособления к родной местности, спорт является, таким образом, самоцелью, то есть пустой и праздной забавой, столь же отвлеченной от жизни, как и школа, которая ему покровительствует. Ее бессодержательный формализм здесь сказывается в полной мере. «Mens sana in corpore sana» [в здоровом теле здоровый дух]— единственный догмат, который она влагает в это занятие. И вспоминая при этом древних греков, они почему-то забывают об Аристотеле, который учил, что тело есть плод, формирующийся из души.
Если плод этот портится, то исцеление может он получить только из цельного духа, утраченного нашей школой, а через нее — и всей нашей жизнью. Где же обрести дух цельности, дух целомудрия нам, находящимся во власти внутренней и внешней демократии, то есть неврастении? Из Святой Софии, Премудрости Божией.
II
Народ, у которого нет никакой загадки, никакого Сфинкса, — не народ. У нас есть эта загадка. Из того, что мы над ней мало задумывались, следует только, что у нас нет Эдипов.
Но у нас есть Сфинкс. И его можно видеть даже чувственными глазами, простаивая часами перед его бесплодной красотой и глубиной. Для этого нужно войти в новгородский Софийский собор и остановиться перед древней иконой Святой Софии, Премудрости Божией. Вот наш Сфинкс.
На троне, стоящем на камне, сидит царица — огненная красная Дева, в ней есть нечто от Царицы Небесной, но есть нечто и от сказочной Царь-девицы, и от огненной колесницы пророка Ильи, и от Алатыря-камня.
Чувствуется, что этот образ есть место высшей напряженности, как бы сгущенности этой души, ее огненной, вечно живой сердцевины. И невольно вопрошание, исходящее от этой загадочной Девы, облекается в форму загадки:
«Сидит царица, не птица и не девица, под ногами камень, за спиной крылья — кто она?»
Всякая загадка выражает сущность или душу весьма реальных и даже обычных предметов. Разгадать загадку и значит уловить связь ее фантастической сущности с реальными предметами, ее воплощающими.
Очевидно, что и загадка всех наших загадок, огненнокрылая Дева, тоже выражает нечто реальное, но не какой-либо частный предмет окружающего нас мира, а весь этот мир — всю Россию.
Немалое нужно напряжение памяти, чтобы вспомнить, что мы, — безумцы, все-таки дети Святой Софии, Премудрости Божией, и что страна наша, столь же похожая ныне на дом сумасшедших, в сущности была и остается «домом Святой Софии».
Поистине, Святая София есть огненное сердце нашей жизни, а вся Россия — ее окружение. И только через окружение можно добраться до сердцевины.
Но что же мы видим кругом Святой Софии? Как будто ничего, кроме развалин. «Рухнул колосс на глиняных ногах», — любят говорить о нас наши враги. «Нас постигла национальная катастрофа», «Мы пережили государственное крушение», — говорим мы о себе сами.
Но это не совсем точные выражения. Рухнуть может, например, Вавилонская башня европейской культуры. Крушение может постигнуть, например, пароход, поезд или, скажем, германский империализм — словом, машину.
Но менее всего напоминаем мы башню или машинное сооружение. Не может быть у нас и развалин, «повитых плющом». Земля наша вообще никогда, даже в самые бедственные времена, не разваливалась, не разрушалась, не испытывала «катастрофы». Земля наша бывала лишь разоряема. Ее разоряли печенеги, половцы, усобицы, татары, смерды, воры, пожары, разбойники, немцы и т. д. Ныне разорена она коммунистами.
А в этом выражении кроме слез заключено и некоторое для нас утешение. Здание разрушается; разоряется — гнездо. Гнездо органичней, теплей, восстановимей здания.
Гнездо выходит из птицы, как из паука паутина, которая ведь есть то же гнездо: его разорили, а оно свивается заново с неудержимостью естественного отправления или родов.
Сколько раз выгорала Россия и опять восстанавливалась — зарубцовывалась, или, правильнее сказать, — воскресала из пепла, поэтому хорошо, что Россия может превратиться в пепел, в прах, в солому, в грязь, в перья, но не в развалины. Это показывает, что Россия не колосс, а большое гнездо.
Мне как-то случалось видеть смерч, разразившийся над деревней: вокруг креста колокольни завертелся черный столп пыли, перьев, войлока и соломы. Казалось, ветер разорил тысячи гнезд.
Современная Россия есть разоренное тысячегнездие.
Много раз, начиная от Всеволода Большое Гнездо и до «Дворянского гнезда» Тургенева, отмечал наш язык этот гнездовой характер нашей души, нашего быта, нашей культуры и даже нашей природы. В этом отношении «круглый» и гнездовитый Платон Каратаев есть вечный символ России. И действительно, нет круглее, нет гнез-довитее страны, чем Россия. Крутится она венком горизонтов и хороводом облаков. Наседкой над ней небо, а под небом — раздувается в боках церковная «луковица». Вот она, как под отцовской шапкой, живет под одной кровлей и, как Ноев ковчег, плывет одним кузовом со всеми чистыми и нечистыми тварями.
И от великой тесноты ее изб много в ней гнездовой, то есть живой,теплоты.
Нет в ней ничего торчащего, монументального. Потому так трудно улавливается ее красота. Тут никакой бедекер не поможет. На Западе достаточно ткнуть пальцем, чтобы тотчас же вырос какой-нибудь дом.
У нас нужно осмотреться кругом, чтобы предметы, быть может сами по себе незначительные, пошли бы вкруг одним царственным хороводом, чтобы соборные главы заклубились бы с облаками, крестами елей заплелись бы в узор с крестами шатровых церквей, белые колонки закружились бы до неба с березами.
Даже самые убогие подробности нашего быта, какие-нибудь лапти и т. п., вплетаются в общий хоровод и венок всего Божьего мира.
Движутся по мягкой пыли котомки в лаптях — и не поймешь, старушки ли это идут в облаках или облака ступают в лаптях. Так легко все у нас сплетается и свивается. Это поймет всякий, перед чьим носом тряслась по суткам дуга и кружились поля. Словом, у нас нечего делать бронзе и мрамору. И после нас в музей ничего не снесешь. Мы не от монументов, не от гигантов и великанов. Мы — из хорового начала. Потому у нас так мало солистов вроде Наполеона. У нас все больше хористы. В низших своих проявлениях эта наша хоровая стихия обнаруживается бараньей стадностью, а в высших — церковностью.
Достаточно взглянуть на икону «О Тебе радуется всякая тварь», чтобы уловить гнездовую суть нашей Церкви. Эта суть в том, что Церковь как бы из сердцевины гнезда обозревает все окружение жизни. Между нею и жизнью нет и не может быть грани, какая существует между клиром и миром, благодаря целибату и латинскому языку, в католичестве.
Наша церковь гораздо народней и природней, чем католичество, и, как это ни странно, теократичней его. Правда, она никогда не стремилась к внешней государственной власти над миром, но это именно потому, что ей было не над чем властвовать. Ибо вся жизнь была и без того Церковью.
Вне Церкви у нас не было и не может быть никакой жизни, никакой культуры, вся наша история была, в сущности, историей Церкви. Если выкорчевать из нее Церковь, то что останется? Одна зияющая пустота.
Скажут: а Петр Великий, а Пушкин, а Лев Толстой? Но Петр Великий был птенцом Церкви, взбунтовавшимся против гнезда, но и тем доказавшим свое сращение с ним. Если бы он не читал на клиросе, то и не выбивался бы с такой яростью из-под крыл Церкви, то есть не был бы Петром, так же как Суворов не был бы Суворовым, если бы не трезвонил в кончанские колокола.
Пушкин немыслим вне строгости Православия, так же, как Державин — вне его великолепия.
А «Всеволод Большое Гнездо» нашей литературы — Толстой — до того был исполнен духом и пониманием гнездовитости, то есть церковности русской жизни, что, вытравливая его из себя, вместе с ним убивал и свой гений.
Словом, все значительное в нашей светской культуре, подобно деревянной слободе у Кремля, вырастало и питалось около Церкви.
Фетиши
Если можно вообще говорить о внецерковной культуре, то только в странах, где силы индивидуализма напрягаются до монументов. У нас же, при полном отсутствии духа монументальности,, все вырастающее вне связи с Церковью кажется одной плачевной, карликовой мелюзгой.
То, что на Западе вырастает до идола, то у нас не поднимается выше уровня фетиша. Даже Учредительное собрание доросло у нас только до «учредилки».А те самые «grands principes de XVIII siecle», которые на Западе вырастали махинами богов и богинь на площади Революции, у нас мокнули лоскутьями над «жертвами Революции», подобно жертвам остяков своим фетишам.
Если западноевропейская культура есть идолопоклонство, то наша внецерковная политическая культурная жизнь есть фетишизм.
Замечательно, что во всей нашей революционной политике не было даже кумиров, а были только божки, фетиши, которых сперва мажут сметаной, а потом бросают и топчут.
Можно подумать, что ареной этой политики служит не живая страна, а лакированный стол, на который бросили ртуть.
Правые эсеры, левые эсеры, группа Маркова, группа Чернова, руппа Плеханова, «трудовики», народные социалисты, оборонцы и пораженцы — вся эта ртутная суета разбегается мурашами по всем направлениям, сливается, двоится, троится, снова сливается и снова дробится. Какая-то Аравия до ислама. Даже революционная Мекка — Циммервальд — с его «черным камнем» — Интернационалом — бессильна объединить этих политических бедуинов — такова сила их фетишизма и глубина забвения целого. Наше несчастье в том, что этот политический фетишизм не ограничивается своими «революционными сферами». Нет, эти звездные сферы, скорее, втягивают в себя каждого политика, или, вернее, — политикана, оторвавшегося от целого, то есть от Церкви. А таких политиканов у нас сейчас не меньше, чем тараканов. Теперь только мы видим, какое безумие было приглашать эту тараканью силу к сознательному участию в политической жизни страны.
В основе этого, рокового для нас, приглашения лежала одна совершенно вообще обязательная аксиома — что каждый в отдельности англичанин, француз, перс, русский есть и должен быть носителем государственности. Относительно англичан эта аксиома, может быть, и верна. Но к нам она совершенно неприменима, в чем, впрочем, нет решительно ничего для нас унизительного.
Призывая всех и каждого к участию к государственной жизни, мы непростительно упустили из виду гнездовую церковную, или, если угодно, соборную природу нашей души, в силу чего бремя государственного сознания наш русский народ может нести только всей землей, а в оторванности от целого, в раздробленности он тотчас же превращается в тараканью прыть, то есть в нечто мягкое, разбегающееся и неспособное нести никакого бремени, кроме мешков.
Мы государственны в целом и анархичны в отдельности. Мы не монументы, не государственные кариатиды. И призывать так называемую революционную демократию поддержать государство — это все равно что соломенный сноп ставить на место кариатиды. Но, сплетаясь в гнездо, та же солома может быть нерасторжимей железных канатов.
Вся наша история от Калиты была свиванием гнезда из соломы и перьев. После революции мы с неудержимой быстротой начали развиваться, распускаться, освобождаться в солому и перья.
Было свитие, настало развитие. Отчего же это произошло? От утраты духа целомудрия и связанного с ним духа смиренномудрия, в силу чего снопы возомнили себя монументами и начали облекаться в тоги и принимать позы трибунов, диктаторов и сенаторов.
Так превратились мы в поле, уставленное соломенными божками — фетишами по-иностранному, чучелами по-нашему. И на посмешище всего мира вообразили, что этим можно прогнать железных гарпий с наших полей, как пугалами прогоняют ворон.
Таким же фетишизмом, то есть утратой духа целого и привязанностью к мелочам, болеет и наша так называемая культурная жизнь, высыпавшая вне Церкви.
Мы обладаем удивительным свойством: из всего, даже такого неподходящего существа, как босяк, создавать куклу, чтобы, позабавившись ею, заменить ее другой куклой. Это занятие становится нашей профессией. Мы научились делать фигурки всех фасонов и стилей. С легкой руки Дягилева мы начинаем даже снабжать своими изделиями Европу, как некогда финикияне снабжали идольчиками культы и страны Средиземного моря. Поэтому культурная жизнь наших столиц напоминает лавку игрушек, в которой за выставкой еще «е просохших изделий, в безмолвии ящиков лежат печальные останки прошлогодних капризов. Кого только не найдем мы в этой беспочестной свалке! Тут и фарфоровый Дионис, и бука-Антихрист, и елочный дед — Генрих Ибсен, и амурчики Кузмина, и лохматый босяк, и неприличные «игрушки для взрослых» из мастерской Ар-цыбашева, и соломенный «Балаганчик» и Прекрасная Дама с помятыми перьями, и маститые изделия таких маститых писателей, как Ясинский, и безносые бабы «Ямы», и фокинские плясуны, и свистульки Стравинского, и картонные театрики Мейерхольда, и этнографические коллекции Бальмонта, и зеленые лошади Петрова-Водкина, и Змей Соллогуба, и страшилище с музыкой Леонида Андреева, и теософия в пентаграммах и звездочках под руку с оккультизмом в остроконечной шапке волшебника.
На смену этим откричавшим петрушкам уже появляются новые: антропософия, футуризм, кубизм. И там, где только что стояла Прекрасная Дама, показываются двенадцать красноармейских рож.
Все эти увлечения, сменяя друг друга, оставляют после себя следов не больше, чем тень на экране, хотя и считаются культами. Так мы изведали культ Диониса, культ пола, культ босяка. И вот наконец, низвергая все прочие культы, идет Пролеткульт.
На первый взгляд кажется, что это просто недоразумение. Однако, вглядываясь в него ближе, мы различаем в нем некоторые очертания, или, точнее говоря, некоторую пустоту. Просовывая в нее руку, мы вытаскиваем пакетик, развертываем — и находим помаду и открытку с женихом и невестой. Боже, какой невообразимой дешевкой культуры, какой залежалой галантереей мысли, слов и стихов полна эта бочка сюрпризов, поставленная среди конфетти и серпантина и называемая Пролеткультом!
Все второсортное и отжившее, все вышедшее из моды, все недоношенное и все переношенное можно найти в ее недрах. Та буржуазная культура, перед которой надувается индюком Пролеткульт, питаясь ее же отбросами, по сравнению с этой спесивой бочкой кажется благородной божницей в форме Силена, о которой говорит Платон в «Пире».
И этот-то Пролеткульт становится нашим, так сказать, центро-культом, который втягивает в себя служителей других, более утонченных, культов.
Придворный художник Версаля предлагает ему свою кисть, а летописец московских особняков, старый Фирс дворянского быта, — перо. Рыцарь Прекрасной Дамы возлагает на безголовую бочку «венчик из роз», и даже волхв из штейнерианского Вавилона несет ей свои диковинные дары. И как на троне центробезумия, восседает на ней Иванов-Разумник. И тем не менее в этом безумии есть своя логика — логика доведения до абсурда. По-видимому, Провидение воспользовалось нашим умением все ординарное доводить до безобразного, чтобы показать подлинную сущность обычных нам заблуждений.
Мы всегда думали, что, живя эмансипированно от Церкви, мы освобождаем свой ум от суеверий. И вот, дойдя до предела этой эмансипации, дошли до величайшего суеверия — до Пролеткульта.
Нам предстоит теперь долгий путь исцеления: от суеверий — к вере, от фетишизма — к цельности, от развращенности — к целомудрию, от Пролеткульта — к Премудрости.
Что такое премудрость? То же самое, что целомудрие, или цельность. Всякая внецерковная жизнь при достаточном развитии неизбежно становится фетишизмом, раздробленностью чувств, мыслей и вырождением, то есть развратом и неврастенией.
Напротив того, отличительная особенность всякой церковности есть цельность и полнота. Поэтому церковная культура поражает своим цельным характером. Церковь не дробит дух человеческий на специальности, но заключает в себе все проявления его полноты: и науку, и живопись, и архитектуру, и музыку, и поэзию, и даже театр, и все это в живом единстве, в гармонии, в стиле.
Ничего подобного этому не находим в современной, то есть безрелигиозной, культуре. В ней тоже все есть, но есть как на ярмарке: крикливо, суетно, смутно, дисгармонично.
Представим себе жизнь среднего культурного человека в период его увлечения так называемыми культурными ценностями, то есть в университетские годы. Поупражнявшись гирями, он идет слушать лекцию о средневековом аскетизме, если он историк, или о брюшном тифе — если он медик. В то же время он почему-то большой поклонник поэзии Блока, а над столом в его комнате висят портреты Карла Маркса и Льва Толстого рядом с Ходотовым и Комиссаржевской. Он не воздерживается от пищи в Великом посту, но не раз задерживает дыхание согласно системе йогов и дважды пробовал становиться вегетарианцем.
И, подобно «Петрову из Лондона и Парижа», он, будучи Ивановым, считает себя за интернационалиста. В конце концов, сам того не зная, он становится дикарем, с головы до ног увешанным бусами и амулетами. Жалкое, бесплодное существование в холоде, в раздробленности и в пустяках. Только в Церкви можно жить в теплоте, величии и полноте, то есть в гнезде. Ибо все то, что алмазною пылью рассыпано по миру, в Церкви заключено в сгущении и в единстве. В ней ничто не стоит особняком, в ней нет ничего лишнего, в ней все дополняет и продолжает друг друга.
Эта необыкновенная цельность церковной культуры вытекает из церковного культа. Достаточно войти во время богослужения, например, в Успенский собор, чтобы почувствовать это. В нем как бы место средоточия и ощущения всей красоты, всей глубины и мудрости Божьего мира. Он подобен золотому сказочному яйцу, заключающему в себе целое царство: покатишь это яйцо — и глубина его купола развернется глубиной небесного свода, иконостас — зорями, склоненность ликов угодников — согбенностью туч, белые полукружия — стволами берез, глубина Символа веры — глубиной мудрости. Но весь-то Успенский собор — только яичко в большом гнезде Церкви. Да и само оно — только видимое выражение невидимой полноты.
Поэтому, как и Бога, Церковь можно определять только отрицательно, апофатически: она не университет, не академия, не искусство, не музыка, не поэзия, не наука, не философия — она все это носит в себе, будучи всего этого выше. Вот почему всякая попытка превратить Церковь в какое-нибудь специальное учреждение, удовлетворяющее той или иной частной потребности, в школу нравственности например, как это делает современное лютеранство, или в археологический институт, как это пытался сделать Антихрист в «Трех разговорах» Вл. Соловьева, — всякая такая попытка в корне извращает дух Церкви и есть поистине дело антихристово.
Церковь тем и отличается от всех других учреждений, что удовлетворяет всей душе человека, будучи исполнена духом целого или просто Духом, так как цельность, полнота и есть Дух. Церковь поэтому можно назвать Духом нашей души.
Только в Церкви живем мы в духе и истине, то есть вообще живем, ибо жизнь дается от полноты Духа и только ей может быть отдана. И напротив — нет такого предмета вне Церкви, с которым можно было бы связать свою жизнь. Великая война показала это наглядно. Все мы являемся свидетелями того, как при первых же залпах 16-дюймовых орудий попадали со своих пьедесталов все боги европейской цивилизации, из коих главные суть: Прогресс, Гуманность, Культура.
Боги оказались божками и в критический момент были покинуты своими поклонниками. Так любезные кавалеры и рыцари дам во время пожара и паники начинают топтать своих недавних богинь. Это и понятно: никто не хочет связывать свою судьбу с тем, что в его же глазах есть только идол. Прав был Гауптман, сказав, что «Реймский собор не стоит груди померанского гренадера». И смешон Луначарский в своем плаче — к счастью, не безутешном — по Василии Блаженном. Ибо Реймский собор, так же как и Василий Блаженный, по-настоящему дороги только для тех, кто их воспринимает в жизни и теплоте великого гнезда Церкви. Но что такое для Гауптмана Реймс? Или для Луначарского — Василий Блаженный? Только музейная вещь, только предмет антикварного интереса, то есть фетиш. Но не только грудью, но и живым пальцем странно жертвовать ради мертвого фетиша. Напротив того: бывали в истории случаи, когда не только за собор, а и за предмет более мелкий — за фоб — шли жертвовать жизнью.
Это потому, что святость и смысл всякая вещь получает лишь в Духе Святом, то есть в Церкви.
Но Церковь не только дух, то есть полнота. Она есть Дух, воплощаемый не только в гнезде, но и камень. Ее полнота не есть только бледная глубина успокоения, но и место напряжения, воскрешения красок жизни. Вот почему в истории она представляется Духом и ростом, благоуханием и одеревенением, огненным раскалением и окаменением. Горчичное семя, посеянное Христом, не заглохло, как это многие думают, видя Церковь проросшей в миру и помня, что «Царствие Божие не от мира сего». Да, именно оно происходит не от мира сего, как только и можно понять предлог «от», отвечающий на вопрос «откуда?», а не на вопрос «где?». Поэтому из того, что Царствие Божие не от мира, не следует, что его нет в мире.
Оно вошло мировым древом Церкви, которое зацветало царствами и осыпалось эпохами, столько веков давая людям кровь, питание и усладу. Достаточно сказать, что одна только ветвь его покрыла мир красками Возрождения.
Только упомянутой исторической тенденциозностью объясняется привычка смотреть на итальянское Возрождение как на какое-то разрушение католичества — на самом же деле оно было высоким его расцветом. Мыслим ли Микеланджело вне папской церкви, не говоря о сиенцах, о Фра Беато, о Перуджино? Мыслима ли вообще итальянская живопись вне Джотто, а Джотто — вне Франциска Ассизского?
Итак, вся эта красота пошла из души святого Франциска, а следовательно, из католической церкви. Умерев в средние века в аскетизме и вобрав из итальянской земли соки античности, душа эта со времени Джотто начала напруживаться воскресением, пока наконец не хлынула красками.
Краски Возрождения — это краски христианского воскресения. В ослабленной степени, то есть в искусстве, в Италии произошло то, что в сильнейшей степени, то есть в жизни, должно произойти во всем мире при воскресении. Весна раннего Возрождения была как бы пробою весны мировой. Правильней потому эпоху Возрождения назвать эпохой Воскресения.
Поистине, Италия есть страна воскресения, из которой нимбами радуг оно распространилось по всему миру. Центром же этих нимбов была церковь, и в ней — блаженный Франциск. Никогда душа католичества не проявлялась так ярко, как в эту эпоху.
У нас не было подобной эпохи.
Это не значит, что наша Церковь менее совершенна, чем католическая. Это значит только, что католическая церковь напряженней и воплощенней; наша — полней и духовней. Напряженность есть непременное начало выделения из непрерывности, из полноты, которая при этом образует как бы перламутровый фон выделяемого. Развиваясь, оно легко приводит к утрате цельности, а усиливаясь сверх меры — и к мелочности.
И действительно, католическая церковь, как это прекрасно показал Вл. Соловьев, легко жертвует своей девственной чистотой, напрягаясь, подобно Николаю Чудотворцу в легенде, чтобы вытащить телегу из грязи. Известна также и религиозная мелочность католичества, его граничащее с фетишизмом пристрастие к священным вещам, например к сувенирам из Лурда, а также к счету грехов и молитв, и в особенности к культу отдельных частей тела Христа и т. д.
Наша Церковь целомудренней католической. Нам не нужно поэтому целибата и железной иерархической дисциплины в такой мере, как католичеству. В гнезде нашей Церкви, умиряемой и округляемой цельностью Духа Святого, не было и не может возникнуть ни сильных страстей, ни яростных ересей — ничего, что нуждалось бы в обуздании. Церковь католическая — расточительна, Православная — соблюдает себя… и в Иоанне Калите с его московским гнездом имеет как бы свое светское повторение. Одна церковь святого Франциска, другая — Иосифа. Одна — реалистична, как Христос Тертуллиана, другая — символична, как новгородская Святая София. В одной — статуи, в другой — иконы…
III
Наша школа пошла от Ярослава Мудрого, то есть, в сущности, от Святой Софии, Премудрости Божией. Утратило ли это гнездо способность высиживать новых птенцов? Вернее, мы утратили мужество вводить детей наших в храм, поручая их ум и сердце Премудрости Божией. Каких результатов можно было бы ожидать, если бы вернулось к нам это мужество?
Мы давно махнули рукой на церковное воспитание и обучение. Его образец — церковная школа — кажется нам образцом затхлости и отсталости. Конечно, эта школа находится в большом упадке, как и та духовная среда, в которой она существует. Но, критикуя церковные порядки и учреждения, мы всегда делаем одну и ту же ошибку: мы рассматриваем их безотносительно к тому светскому миру, с которым они связаны нерасторжимыми узами.
Если бы мы соизмеряли церковное общество с светским, мы легко бы увидели, что Церковь, подобно кораблю, стоящему в гавани, повышается вместе с уровнем того светского общества, на котором стоит, и вместе с ним понижается, всегда, однако, оставаясь выше его. Пример этого мы имеем перед глазами: несмотря на весь свой упадок, наша церковность в настоящее время стоит неизмеримо выше того, что ее окружает. В ней одной в настоящее время можно найти и подлинную государственность, и чувство достоинства, и спокойное мужество, и способность к подвигам, и даже значительную силу хозяйственности.
Словом, в то время как кругом нее все плавает на обломках, она одна стоит, как хорошо оснащенный корабль.
Это было бы трудно и даже невозможно понять, если бы та школа, которая поставляет на него экипаж, была бы ниже всех других наших школ. На самом деле она не ниже, а выше их. При всех ее недостатках в ней есть одно достоинство, которого нет в светской и в особенности в образцовой школе: она дает известную закалку характера.
Не удивительно поэтому, что из ее среды выходило так много крупных государственных деятелей. Это показывает, что она хранит в себе нечто от цельности Церкви. Впрочем, я не хочу скрашивать несовершенство современной церковной школы. Но оно не в том, в чем его обыкновенно усматривают, — не в отсталости ее от установленного школьного образования, а в ее стремлении постепенно к нему приближаться. Не достигая его, она сразу приобретает характер второсортности, провинциальности и в то же время утрачивает свое самое драгоценное качество — свою цельность.
Во всяком случае, она имеет почтенное прошлое и, может быть, даже будущее. Ее достоинства и недостатки связаны с целой эпохой нашей Церкви и нашей истории, а именно — с ее петербургским периодом…
Как представить себе школу Святой Софии? Ее общий характер намечается ее именем. В противоположность современной неврастенической школе, церковная школа Святой Софии есть цельная школа. Ее цельность прежде всего заключается в том, что в ней все обучение есть в то же время и воспитание. Обучить и значит воспитать, то есть воплотить в душе и в теле какую-нибудь идею.
Разумеется, к этому стремится всякая школа. Но выполнить это под силу только школе церковной, так как источник, из которого она черпает, есть воплощающаяся полнота. Подобно музыке, она имеет свойство наполнять все наше тело.
Слушая музыку, мы испытываем как бы напор полноты.
Пускаясь в пляс, мы как бы разбрызгиваем этот напор. Задерживая его в душе, мы как бы сохраняем себя в целомудрии. Недаром пифагорейцы в основу воспитания, в частности, клали музыку. Церковь есть система воспитания в музыке и целомудрии. Она приучает весь мир воспринимать музыкально. Она приучает весь мир воспринимать как тело, наполненное музыкой, а идеи — как музыку, наполняющую тело. В церковном сознании нет отвлеченных идей и потому нет раздробленного мира.
Она воспринимает его не в холоде пространств, а в теплоте Духа в теле.
Школа Святой Софии должна прежде всего развивать такое сознание полноты. Но как достигнуть его? Идя путем, обратным тому, каким современная светская школа приводит к сознанию пустоты. Основной недуг этой школы, как и всего современного сознания, есть отвлеченный идеализм. Этим недугом со времени Руссо и его «великих принципов» болеет все культурное человечество, но особенно остро он привился в нашей интеллигенции, достигнув апогея в толстовстве.
Его суть в стремлении найти добро вне жизни. Быть идеалистом и значит желать быть добрым больше, чем быть живым. Этот недуг у нас почему-то всегда считался за великую добродетель. Мало того: его принимали за чистое христианство, забывая при этом, что христианство есть прежде всего религия воскресения, то есть творчество напряжения жизни, и что поэтому главный признак христианства есть любовь к живому и отвращение к мертвому.
Идеалист, напротив того, отвращается от жизни, от плотского, и влечется к бесплотному.
Подобно музыке сфер, в его душе постоянно звучит: «Отречемся от старого мира». Но не только «старый», а и вообще весь Божий мир кажется ему препятствием, через которое нужно перепрыгнуть, чтобы попасть в царство добра.
И как это ни странно, из этого отрешенного от мира царства он возвращается с теориями, предназначенными управлять миром.
Таков путь отвлеченного идеализма. Мы приучаемся вступать на него со школьной скамьи. Желая быть живой, современная школа делает все, чтобы отучить нас от жизни. Она начинает с того, что переносит наш ум в какое-то причудливое царство фикций — иксов, членистоногих, патрициев, плебеев, земных и мозговых полушарий, нониусов и параллаксов. Безжизненную пустоту этих фикций пытается она заполнить суррогатами жизни — наглядными пособиями и экскурсиями, пренебрегая в то же время единственным наглядным пособием — самой жизнью.
Вместо того чтобы как можно дальше задержать на ней ум, наша школа своими усовершенствованными методами и методиками облегчает ему как можно скорей соскочить в область отвлеченных идей и теорий.
Единственно великий метод, по которому, казалось бы, естественно идти русской школе, есть метод Петра Великого.
Это не значит, что школа должна обратиться в ремесленное училище. Но есть два рода фантазий: фантазия утопическая и фантазия органическая, или религиозная.
Одна — оторвана от жизни, другая — составляет самый источник ее. В одной — душа наша бесплодно блуждает, из другой — творчески изливается в мир. В одной мы падаем, перешагнув через жизнь, — таков путь безумия; в другой углубляемся в самую плоть жизни — таков путь Премудрости.
Несомненно, по нему, или, верней, по ограниченной полосе его, шел Петр Великий.
Во всей своей широте он лежит перед школой Святой Софии. И она имеет все данные, чтобы вступить на него.
Его можно назвать также путем религиозного эмпиризма, так как он приводит к высшим областям религиозного ведения, не делая нас, однако, неопытными младенцами в жизни.
Мы часто думаем, что главная причина нашей безрелигиозности есть чрезмерная погруженность современных людей в жизнь. Мы забываем при этом, какими фикциями окутаны даже самые деловые и житейские люди — инженеры, юристы, политики и т. д. Их ум погружен не в жизнь, а в проекты, в утопии, в комбинации, в сделки. Даже внешняя обстановка их жизни несет на себе печать отвлеченности и причудливости их ума.
Что может быть причудливей и безжизненней зрелища современной фабрики? Или холодней «уютной» гостиной? Или утопичней драм и декораций кинематографа? Или демоничней современных нарядов?
В таком кошмарно-сложном мире, чью бескровную душу так гениально раскрыл Бердслей в графике, образы веры встретят только неверие, так как от него к ним нет перехода.
Чтобы почувствовать их живыми, надо уловить их связь с жизнью. В нарушении этой связи и заключается главная причина неверия.
Трудно поверить в Николая Угодника среди ресторанного шика. Трудно не поверить в него среди наших полей, туч и скорбей — так как по всей нашей земле рассеяны намеки на его лик.
Другими словами, источник веры кроется в возможности принять образ не отвлеченно, а жизненно-воплощенно.
Вся мифическая фантазия служит тому доказательством.
Греки потому верили в Пана, что среди горных пастухов видели Пана. Их вера в Диониса, в Силена и сатиров была бы мертва, если бы они в мистериях не воплощали в себе бога и его хоровод. Зевс хмурился в густых бровях «божественных старцев» и в тучах Олимпа, так же как домовой мерещился в сединах и в овчинах, черт — в копоти и дыме, леший — в трясине.
Вещи, следовательно, незаметной радугой переливались в фантазию. Поэтому ее образы казались живыми, да и были такими.
Почему образы современной фантазии воспринимаются не мифически, то есть сильно и живо, а лишь эстетически, то есть чахло и бледно? Потому что они действительно мертвы и бесплодны, так как отрезаны от всякой жизни реального. Там, где был перелив в полноту, мы видим теперь лишь обрыв в пустоту.
Вся тайна религиозного воспитания и заключается в том, чтобы фрогистику и обрывочность жизни заполнить полнотой веры.
Этого возможно достигнуть лишь с детства и в Церкви. Ибо есть два места в мире, где можно найти миф и мистерию, то есть живую фантазию и ее воплощение, — в Церкви и в детях.
Поэтому нет благодарней задачи для воспитания, чем жизнь детей слить с жизнью Церкви.
Для этого нужно только воспользоваться двумя свойствами детской натуры: любовью к игре и любовью к изобразительности.
Игра есть подражание, то есть начало воплощения, а следовательно и мистерия. Привлекая детей к участию в церковных мистериях, в богослужении, мы только углубляем их потребность в игре, давая ей содержание на всю жизнь.
Обыкновенно душа недолго цветет играми: они скоро осыпаются, не оставляя следа. Только в исключительных случаях из игры выходит дело, как из «потешных» вышло войско, а следовательно и государство Российское. Церковное воспитание может сделать исключение правилом.
Кто в детстве прислуживал в алтаре, гот знает, какое удивительное чувство радости и страха пробуждает в детской душе участие в богослужении. Ибо здесь сознание игры впервые соединяется с сознанием важности того, что разыгрывается. Трудно представить себе поэтому, какое богатство воспитательных влияний на душу детей кроется в их участии в богослужении.
Это участие, образуя как бы краеугольный камень воспитания в школе Святой Софии, должно быть и применяемо в ней в несравненно более широких размерах, чем это обыкновенно принято.
Золотыми вереницами должны идти дети при выходах и при выносах, образуя оправы и окрыления Святых Даров, Креста и Евангелия, приучаясь проникаться ритмом богослужения. Мы заставляем детей играть по Фребелю9 и двигаться по Дальпрозу. Мы и не подозреваем, какой источник фантазии, грации и воспитания заключает в себе церковное благолепие.
Но и внебогослужебные игры детей должны быть мистериями, то есть воплощением божественных образов и событий.
Как в школе Карла Великого, пусть и в школе Святой Софии они называют себя библейскими именами, пусть они играют в волхвов, в пастухов, в Иоанна Крестителя, в искушение, во всемирный потоп, в путешествия апостолов; пусть они разыгрывают подвиги святых и церковно-исторические события так, как это подсказывают им легенды, собственное воображение — и иконы.
Впоследствии они и жизнь свою начнут воспринимать как мистерию.
Одна из героинь Франсиса Жамма10 имела привычку все важные события своей жизни приурочивать к евангельским событиям. Ее жених в весеннее утро в Лурде поднес ей гиацинт, а она вспомнила Благовещение.
По-видимому, жизнь Христа и Его Матери есть прообраз всякой человеческой жизни. Отсюда открывается искусство, более увлекательное для детской изобретательности, чем раскрашивание картинок, хотя и подобное ему, — обрывочные и бледные контуры земной жизни заполнить небесными красками.
Еще в большей мере это искусство применимо к природе. Наша природа, перегороженная иконостасами зорь, сплошь церковна. Можно сказать, что наша Церковь свита из нашей природы. То, что скручено в куполах, то раскручено в небесах; то, что сгущено в иконах, то растворено в веснах.
Вот почему наши иконы — явлены, то есть как бы непосредственно рождаются в золоте сосен, в траве, в холоде вод. Это было бы невозможно, если бы образы веры не брезжили в нашей природе. Она — наша высшая мудрость…
Может быть, покажется странным и исторически несообразным, что «Василий Парийский — землю парит», а «Федор Студит — землю студит». Но угодники Божий не только исторические памятники — они Церковь и Слава Божия и в таком качестве открываются в народной фантазии и в легенде гораздо полней, чем в исторических датах.
Называя Василия (28 февраля) капельником, Авдотью (1 марта) плющихой, Иродиона (8 апреля) ледоломом, Спиридона (12 декабря) солнцеворотом, Егора (23 апреля) волопасом, Никиту (15 сентября) репорезом, Онисима (15 февраля) овчарником, Степана (26 апреля) ранопашцем, советуя на святого Пуда доставать мед из-под спуда, народный календарь сливает имя святого с сущностью его дня, сообщая дням и делам теплоту святости и вводя Славу Божию в обиход жизни. Так в круговороте будничных дел и дней проходит перед нами весь круг Церкви, прорываясь время от времени разливами красок и ликований, то есть праздниками. Детей нужно приучать не только к труду, но и к праздникам. По мере эмансипации жизни от Церкви самое понятие праздника сереет на общем фоне уныния. Оно исчезает совсем, если водворится то нудное царство трудящихся, в которое нас вгоняют. «Гражданские праздники» — это не менее безотрадно, чем гражданские похороны. Праздник может быть только церковным, то есть он есть ликование не в пустоте гражданских воспоминаний, а в полноте всего небесного и земного круга Церкви.
Праздник, говорят, есть воспоминание о событии, — нет, само событие в великолепии Православия. Праздник поэтому нужно уметь не только вспоминать дома, но видеть на небе. И действительно, наше небо играет и переливается праздниками — золотыми дарами рождественской ночи, синевой Благовещения, огненным жаром Духова дня, купелью Ивана Купалы, кипящей дождями и плодородием.
Итак, в основе религиозного воспитания должно лежать развитие религиозной фантазии. Ее суть в том, что она, будучи красотой невидимой, неуловимо переходит в красоту видимую. Подобно радуге, она, вершиной теряясь в небе, по низам упирается в землю.
Детские взоры должны свободно скользить вверх и вниз по этой небесной лестнице, беря себе в образец ангелов во сне Иакова. Для этого к невидимому нужно идти через видимое, прозревая в себе и кругом себя церковь. Словом, не по учебникам, а на практике и на опыте должно изучать то, что принято называть Законом Божиим, но что лучше назвать Духом Божиим. Нужно углубиться в дух нашей земли, собранной из пространств и веков в нашу Церковь, чтобы дойти до Духа Божия, до источника всей нашей мудрости и целомудрия. Ибо Церковь есть узел и средоточие не только всей настоящей, но и всей прошлой жизни.
Замечательно, что в Церкви прошлое не отмирает, но скапливается, продолжая, пока остается в ней, хранить тепло жизни. Не говоря уже о тысячелетних святынях, все еще теплых от поцелуев, даже подробности и мелочи церковного обихода сохраняют в Церкви не археологическое, а жизненное значение.
Входя в церковь, мы разом входим во все века до смутного времени.
Здесь вся внешность, все формы, все жесты, все одеяния — в высшей степени не от века сего и тем не менее находятся не в музее, а в самом жерле жизни — в церкви. Вот почему из церкви открывается путь и к проникновению в прошлое. Можно сказать, что мы историчны поскольку, поскольку церковны.
Нельзя не заметить, что церковные люди, хотя бы они были совсем не историки, обладают удивительно тонким чутьем к прошлому.
Они как бы заряжены прошлым и носят его в себе. Только на почве этого чутья при помощи исторического образования может создаться подлинное проникновение в прошлое. Не случайно, что Ключевский вышел из духовной среды и окончил церковную школу. Это и понятно: церковная школа, именно в силу своей церковности, стоит у самых врат истории, и часто, сама того не сознавая, одна обладает тайной исторического изучения. Говоря просто, лучший и самый верный способ приобщиться к XIV веку — это приложиться к мощам преподобного Сергия Радонежского. Ибо в церкви Сергий Радонежский не только сохраняется как воспоминание или как памятник, но живет, но не только живет, но творит, будучи чудотворцем.
Церковь, следовательно, есть единственное на земле место, где святые, то есть в большинстве случаев герои истории и средоточие целых эпох, ощущаются как живые.
Поэтому, приобщаясь к Сергию Радонежскому, мы приобщаемся через него и к той эпохе, для которой он был средоточием, как бы проглатываем ее. Это не значит, что мы ее познаем, — это значит, что мы с ней родимся, закладывая основу и начало будущего познания.
Другими словами, Церковь насыщена прошлым и потому дает возможность ощущать его в настоящем.
Отсюда школа может сделать поучительный вывод, что для развития исторического чутья в детях одно путешествие их к святым местам в качестве богомольцев даст им больше, чем десять учебников и столько же экскурсий с образовательной целью. Эти «экскурсии» в некоторых отношениях даже прямо вредны, так как развивают в детях мертвый глаз бедекера, приучая их относиться к самым корням жизни, например к печерским угодникам, как к музейным диковинам. Именно это путешествие с бедекером по фрагментам истории превращает прошлое в груду мусора, выметенного из жизни.
Только школа Святой Софии может научить воспринимать прошлое не во фрагментах, а в Церкви, то есть в Духе и в Жизни. Из этого же источника берет свое начало и естествознание.
«Если ты хочешь стать природоведом, — говорит Я. Беме11, — и исследовать существо Божие в природе, то моли Бога о Духе Его Святом, дабы благоволил просветить тебя оным».( Беме Я. Aurore / Рус. пер. Алексея Петровского. С. 32).
К сожалению, школьное природоведение менее всего исследует в природе «существо Божие» и вообще чье бы то ни было существо. Оно исследует в природе не существо — сушь.
Между тем сущность природы не в суше, а в жизни, в ее источнике, то есть в Боге. Прав был поэтому Беме, давая совет природоведу молиться о Духе Святом.
Другими словами, главная и единственная цель естествознания заключается в познании природы как живого целого. Естественнее всего эта цель достигается на почве церковного сознания. Жизнь — это воскресение. А быть церковным — это и значит быть исполненным духа воскресения, духа жизни. Только приобщаясь к этой жизни в ее источнике, исходя из него как из сердца, можем мы научиться понимать и его мельчайшие разветвления, его, так сказать, капилляры в природе. С другой стороны, приучаясь с детства воспринимать воскресение не только в догмате, но всюду в природе, почувствуем мы не отвлеченный, а жизненный смысл пасхального догмата.
Ибо воскресение, то есть творческий порыв к воплощению, плодом которого является живое тело, есть универсальный принцип жизни.
В слабых степенях и меньших масштабах чудо воскресения, или, в сущности, чудо творчества, совершается ежеминутно и всюду, в нас и в природе. Можно сказать, что простой акт поднятия руки, будучи воплощением бесплодного вначале усилия, по существу ничем не отличается от акта восстания мертвых из гроба.
Показать, что всюду совершается частное попрание смерти и дарование жизни сущим во гробе, — такова задача естествознания в школе Святой Софии.
Для этого школьному естествознанию вовсе не нужно превращаться в слезное размышление на тему «о совершенстве природы и о Величии Божием». Для этого ему нужно быть только научным, то есть чуждым тех материалистических предрассудков, которые оно унаследовало от философии прошлого века. А главное, непосредственное наблюдение над живой природой должно преобладать в нем над экспериментированием: изучение жизни (биология) — над рассечением жизни (анатомия).
Книга Фабра12 «Жизнь насекомых» может служить ему в этом отношении руководством и образцом. При этом нет надобности скрывать от детей так называемые несовершенства природы. Сила Бога Живого проявляется не в завершенных и раз навсегда установленных формах, а в неустанном напоре жизни, который ищет новых и новых форм воплощения и который есть, в сущности, воскресение. Поэтому идея творческой эволюции должна лечь в основу естествознания в школе Святой Софии.
Таким образом, традиционная борьба Закона Божия и естествознания не может иметь место в этой школе. Это и понятно: естествознание, поскольку оно исходит из идеи жизни, а не механизма, есть, в сущности, раскрытие, подтверждение пасхального догмата в природе. Но дух воскресения есть дух школы Святой Софии.
Итак, приобщая к Церкви, школа Святой Софии тем самым закладывает начало всякого знания и всякого действия.
Вот почему ее можно назвать школой цельности. Будучи церковной, она, следовательно, не есть какое-то чистое свойство нашего духа, она есть сам Дух — та закваска, на которой все врастает, та цельность человека, без которой в нем нет подобия Божия, а есть одно искажение. Быть церковным не значит обладать какими-нибудь специальными и профессиональными способностями, навыками и познаниями. Это значит таить в себе основу всех духовных профессий. Можно сказать, что если мы хотим быть поэтами, философами, государственными людьми, историками, естеством ми, — мы должны, прежде всего, стать церковными. Ибо церковное сознание есть цельное сознание.
В нем — исцеление от капризов и распущенности страстей и ума, от фетишизма и неврастении. В нем — источник великой культуры, в нем и государственный разум.
В углублении церковного сознания и заключается вся премудрость школы Святой Софии.
_______________________________
- Бернар Клервосский (1090 – 1153) – французский богослов – мистик. Аббат монастыря в Клерво. Вдохновитель 2-го крестового похода.
- Фридрих II Гогенштауфен (1194—1250) — германский король (с 1212). Император «Священной Римской империи» (с 1220). Король Сицилии (с 1197). Боролся с папством и северо-итальянскими городами.
- Марсилий Падуанский (между 1275 и 1280 — ок. 1343) — итальянский политический мыслитель. Лучшей политической формой считал сословную монархию. Автор трактата «Защитник мира». Выступал против притязаний папства на светскую власть. Отлучен от католической церкви.
- Оккам Уильям (ок. 1285 — 1349) — английский философ-схоластик, логик, францисканец. Главный представитель номинализма. С 1284 жил в Мюнхене и являлся главным идеологом императорской власти и противником притязаний папства на светскую власть.
- Кола ди Риенцо (настоящие имя и фамилия — Никола ди Лоренцо Габрини) (1313—1354) — итальянский политический деятель, вождь восставших пополанов в Риме в 1347 и глава Римской республики, установленной в мае-декабре 1347 и августе 1354.
- Тайлер Уот (?—1381) — вождь крестьянского восстания в Англии в 1381. Убит во время переговоров с королем.
- Уиклиф Джон (между 1320 и 1330—1384) — английский реформатор, идеолог бюргерской ереси. Требовал секуляризации церковных земель, отвергал необходимость папства.
- Жане Пьер (1859—1947) — французский психолог и психопатолог. Профессор психологии в College de France. Психологию рассматривал как науку о поведении. Основой неврозов считал нарушение равновесия между высшими и низшими психическими функциями. Автор книги «Неврозы».
- Фребель Фридрих (1782-1852) — немецкий педагог. Теоретик дошкольного образования. Автор идеи детского сада.
- Жамм Франсис (1868—1938) — французский поэт. Автор сборников «Прогалины в небе» (1906), «Богоматерь и сонеты» (1919), «Четверостишия» (кн. 1-4, 1922-1925).
11. Беме Якоб (1575—1624) — немецкий философ-мистик. Основные сочинения: «Аврора, или Утренняя заря в восхождении», «О рождении и обозначении всех сущностей», «Великая тайна, или Изъяснение первой книги Моисея».
12. Фабр Жан Анри (1823—1915) — французский энтомолог. Автор книги «Энтомологические воспоминания» (т. 1—10, 1879-1907).

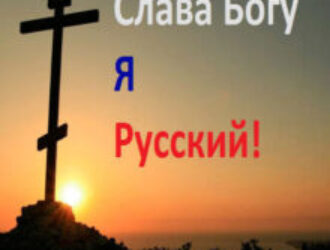


Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.