Сибирь: Процедура исполнения смертных приговоров в 1920 – 1930-х годах
Их нежные кости сосала грязь.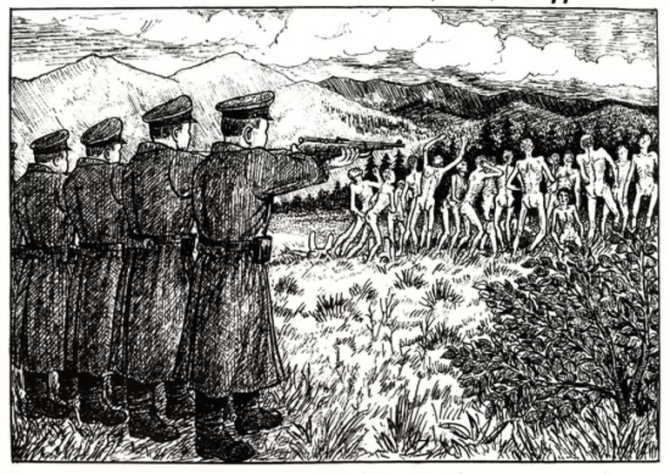
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струёй из простреленной головы.
О мать революция! Не легка
Трёхгранная откровенность штыка.
Эд. Багрицкий, «ТВС», 1929 г.
Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватает свои жертвы и перемалывает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно.
Владимир Зазубрин, «Щепка», 1923 г.
Я всегда думаю о психологии целых тысяч людей — технических исполнителей, палачей, расстрельщиков, о тех, кто провожает на смерть осуждённых, о взводе, стреляющем в полутьме ночи в связанного, обезоруженного, обезумевшего человека.
Мария Спиридонова, 1937 г.
Академик Д.С. Лихачёв как-то сказал, что одна из главных проблем нашей страны в том, что миллионы людей в России небрежно похоронены.
В конце XIX столетия штатных палачей в огромной империи можно было пересчитать по пальцам. Затем ситуация изменилась. Революционный террор периода первой русской революции вызвал жестокую реакцию властей: виселицы и расстрелы стали обыденным явлением, причём для расстрелов осуждённых военно-полевыми судами использовались обычные солдатские взводы. За 1905 — 1908 гг. и первые три месяца 1909 г. военно-окружные и военно-полевые суды вынесли революционерам (в том числе многочисленным эсеровским террористам) 4.797 смертных приговоров. Исполнено было — 2.353. Назвать эту цифру экстремально высокой тем не менее сложно: число погибших при террористических актах оказалось в несколько раз больше, чем расстрелянных за государственные преступления.[1]
Третья российская революция оказалась самой реакционной из всех возможных. Разрушительная её сторона оказалась самодовлеющей. И это самым роковым образом сказалось на всех сторонах российской жизни, сорвавшейся в штопор многолетнего террора. Советское государство создавалось карьеристами, идеалистами и палачами для обслуживания интересов именно карьеристов и палачей. После семнадцатого года началась совершенно новая страница в отечественной карательной практике. Массовое уничтожение «враждебных элементов» в пореволюционные годы породило разветвлённую расстрельную «промышленность», охватившую, по-видимому, десятки тысяч исполнителей. Смертная казнь в Советской России надолго стала бытовым явлением, и документы, относящиеся к этой теме, в изобилии обнаруживаются в ставших доступными архивных фондах.
Регламент
При старом режиме осуждённых к смертной казни вешали либо расстреливали. После большевистской революции власти остановились на расстреле как наиболее быстром и удобном способе, идеальном для массовых экзекуций. Поскольку до начала 1920-х гг. судебного кодекса и прокурорского надзора не существовало, то в процедуре осуждения, исполнения приговора и захоронения могли быть различные варианты. Так, осуждённых к высшей мере наказания могли подчас казнить публично. Именно таким образом были расстреляны бывшие царские министры в сентябре 1918 г. В те же дни по указанию председателя ВЦИК Я.М. Свердлова комендантом Кремля П.Д. Мальковым в присутствии жившего в Кремле поэта Демьяна Бедного прямо в гараже была расстреляна Фанни Каплан, причём труп террористки не был захоронен, а сожжён в железной бочке с помощью керосина.
Окончание гражданской войны способствовало оформлению процедуры исполнения высшей меры наказания. Если приговоры губернских и уездных чека часто исполнялись немедленно и без всяких апелляций, то военная юстиция оставляла осуждённому некий минимум времени для подачи апелляции. В конце 1920 г. появился приказ РВС Республики и НКВД № 2611, подписанный Ф.Э. Дзержинским и К.Х. Данишевским, который гласил, что вынесенный трибуналами приговор должен быть исполнен через 48 часов со времени отсылки ревтрибуналом округа уведомления о приговоре в вышестоящий орган — РВТ Республики.
Процедура исполнения смертной казни в 1922 — 1924 гг. регламентировалась циркуляром Верховного трибунала РСФСР от 14 октября 1922 г., который в реальности постоянно нарушался. Изучение расстрельной практики вынудило власти ещё раз напомнить карательным структурам о следовании установленному порядку. В начале 1924-го на места прокурорам, председателям трибуналов и губсудов было разослано распоряжение Наркомюста СССР «о порядке расстрелов», из которого хорошо видны те нарушения, которые допускались при казнях. В соответствии с этим документом Сибпрокуратура 5 февраля 1924 г. получила предписание «не допускать публичности исполнения», абсолютную недопустимость мучительных для осуждённого способов исполнения приговора, «а равно и снятия с тела одежды, обуви и т. п.». Предлагалось не допускать выдачи тела казнённого кому-либо, а предавать его земле «без всякого ритуала и с тем, чтобы не оставалось следов могилы».
Техника расстрелов и даже сами казни обычно тщательно скрывались от общества. Печатно о них объявляли исходя из политической конъюнктуры; в газетах периода гражданской войны постоянно с целью устрашения печатали списки осуждённых контрреволюционеров, впоследствии объявляли о расстрелах после открытых процессов, в том числе по чисто уголовным делам. Но получить документы о казни близкого человека его родственники обычно не могли. В декабре 1925 г. прокурор Сибкрая П.Г. Алимов отвечал на запрос красноярской окружной прокуратуры: «Сообщаю, что объявлять о приговорах по внесудебной расправе при применении высшей меры наказания может, на основании имеющихся сведений, Прокуратура в устной форме, выдача же по этому поводу письменных справок не допускается».
3 февраля 1926 г. Алимов получил сообщение прокурорских работников из Иркутска о многочисленных заявлениях родственников осуждённых к расстрелу во внесудебном порядке, которые просили выдать соответствующие справки, чтобы получить развод, установить опеку, вернуть вещи. Несмотря на прокурорское указание, Иркутский губотдел ОГПУ «всячески уклонялся» от устного объявления решения о ВМН, направляя родственников расстрелянных в прокуратуру либо объявляя им, что осуждённый «отправлен в Соловки». (Фраза о «Соловках» была очевидной предшественницей знаменитой формулы «10 лет в дальних лагерях без права переписки».) Алимов написал: «Сделать указание».[2]
Ачинский окружной прокурор Г. Н. Митбрейт 7 марта 1927 г. запрашивал крайпрокуратуру, что делать с обращениями родственников расстрелянных в период кампании борьбы с бандитизмом. Он сообщал, что Ачинский окротдел ОГПУ, «ссылаясь на директиву. по линии ПП ОГПУ, указывает на то, что расстрелы, произведённые в кампанию по борьбе с бандитизмом, объявлению не подлежат вообще».
В ответ исполнявший обязанности Сибкрайпрокурора Пачколин 25 марта 1927 г. всем окружным прокурорам разослал указание объявлять родственникам о расстрелах их близких только устно, а выдачу свидетельств о смерти должны были взять на себя подотделы ЗАГС в окрадмотделах. 19 апреля того же года Пачколин разъяснял Ачинскому окрпрокурору, что «одежда расстрелянных родственникам их выдаче не подлежит». Правда, на следующий день Пачколин запросил прокуратуру при ОГПУ СССР о законности запрета выдавать родственникам вещи осуждённых к расстрелу. Через три недели из Москвы ответили, что вещи казнённых «подлежат возврату». Но эта норма не отличалась устойчивостью: 22 марта 1933 г. в г. Каинске (Куйбышеве) Запсибкрая комендант барабинского домзака А. Крышка и райпрокурор П.И. Гуселетов после казни осуждённого составили акт о том, что «старый полушубок, старая меховая шапка, зипун старый и старый пиджак, оставшиеся после расстрелянного (А.Ф.) Агапитова, переданы на хранение Барабинскому ИТУ».
Традиционная советская волокита приводила к тому, что ЗАГСы не получали справок о расстрелах от Центрального архивного управления НКВД и не могли отвечать на запросы граждан. В связи с этим летом 1927-го прокуратура при ОГПУ дала распоряжение местным органам ОГПУ самим выдавать ЗАГСам справки о приведении приговоров в исполнение. Чекисты избегали сообщать прокуратуре какие-либо данные о своей деятельности. По словам минусинского окрпрокурора, во время кампании борьбы с бандитизмом окротдел ОГПУ отказал ему в предоставлении сведений по большинству приговорённых за второе полугодие 1927 г.[3]
Секреты расстрельной практики охранялись строго. В январе 1927 г. из Минусинского исправтруддома был досрочно освобождён Л.В. Петрожицкий, который, однако, вскоре оказался под следствием за антисоветскую пропаганду: властям стало известно о его рассказах о расстрелах осуждённых органами ОГПУ прямо в тюрьме. Это нарушало как тайну процедуры казни, так и правило, установленное прокуратурой в 1924-м о необходимости присутствия прокурора в момент расстрела осуждённого — «с целью наблюдения за правильностью его (приговора — А.Т.) исполнения». 2 июля 1927 г. Сибпрокуратура обратилась к полпреду ОГПУ Заковскому с просьбой наложить взыскания на виновных «в несоблюдении правил приведения приговоров в исполнение» и указать окротделам сообщать в местные прокуратуры о времени и месте расстрелов, чтобы прокурор мог присутствовать при казни.[4]
Расстрелы, которые осуществлялись тройками в первой половине 1930-х гг., также были строго секретными. В июле 1937 г. приказ НКВД СССР № 447, положивший начало «массовым операциям», особо предписывал сохранять полную секретность с вынесением и объявлением приговоров троек. В соответствии с директивой НКВД СССР № 424, подписанной М.П. Фриновским, осуждённым тройками и двойками приговор не объявлялся — чтобы избежать возможного сопротивления — и о расстреле они узнавали только на месте казни. (Неизвестно, существовала ли подобная директива в практике ЧК, но в первые годы советской власти осуждённых зачастую «ликвидировали», не сообщая им о приговоре.)
25 августа 1937 г. наркомвнудел Татарской АССР А.М. Алемасов отдал распоряжение начальнику Чистопольской опергруппы П.Е. Помялову расстрелять десятерых осуждённых. Алемасов особо указал, что объявлять осуждённым решение тройки не нужно. Это правило часто действовало и в отношении тех, кого судила военная юстиция — тайные приговоры о высшей мере наказания выездной сессии Военной коллегии Верхсуда СССР, вынесённые в Орле в августе 1938 г., маскировались словами председательствовавшего на заседаниях А.М. Орлова: «Приговор вам будет объявлен». В Новосибирске работники военного трибунала говорили обвиняемым, что приговор им будет объявлен в камере.
Специфическим образом в 1937 — 1938 гг. оформлялись приговоры на многих видных сотрудников НКВД, в том числе бывших. В их следственных делах отсутствуют как протоколы об окончании следствия, так и приговоры. Чекистов уничтожали в так называемом «особом порядке»: после утверждения Сталиным и ближайшими членами его окружения расстрельного приговора жертву без всякой судебной процедуры несколько дней спустя выдавали коменданту военной коллегии Верховного Суда СССР с предписанием расстрелять. Все эти предписания выполнялись от руки, что говорило об особой секретности данной категории расстрелов. В качестве основания для приведения в исполнение приговора в подшитой к делу справке давалась глухая сноска на некие том и лист. Когда исследователи получили в своё распоряжение 11 томов «сталинских списков», то оказалось, что номера томов и листов из справок полностью совпадают с номерами тех томов и листов данных списков, где значились фамилии осуждённых.
Что касается объявления о судьбе расстрелянных по 58-й статье УК, то с 1937 — 1938 гг. родственникам дежурно сообщалось об осуждении их на «десять лет лагерей без права переписки». Новосибирский облпрокурор А.В. Захаров в 1940 г. критиковал этот порядок как дискредитирующий прокуратуру, ибо многие родственники, запросив ГУЛАГ и получив официальную справку, что такой-то среди заключённых не числится, добивались от работников НКВД устного признания о том, что осуждённый на самом деле был расстрелян, а потом устраивали скандалы в прокуратуре и, жаловался Захаров, обзывали прокурорских работников «манекенами».[5]
Публикация сталинских расстрельных списков показала, что многие лица, попавшие в них, осуждались к высшей мере повторно. Часть из них продлила жизнь сотрудничеством с НКВД. Так, внутрикамерный агент С. Е. Франконтель был осуждён по первой категории 27 февраля и 27 марта 1937 г., а Б.М. Оберталлер — 27 марта 1937 г. и 20 августа 1938 г. Подчас даже двойное включение в расстрельный список не означало уничтожения узника. Ведущий агент-провокатор новосибирской тюрьмы С.Е. Франконтель был жив и в 1940 г., а бывший секретарь Алтайского губкома РКП (б) Я.Р. Елькович, с 1936 г. работавший внутрикамерным агентом УНКВД по Свердловской области, 27 февраля и 19 марта 1937 г. включался в списки осуждённых к ВМН, но впоследствии был осуждён к лишению свободы. Что касается известного агента-провокатора Ольги Зайончковской-Поповой, много лет доносившей на Тухачевского и других военных, то она, попав в расстрельный список от 31 августа 1937 г., уцелела: использовалась в качестве внутрикамерного осведомителя, а в 1939-м была освобождена.[6]
Многие известные деятели по инициативе Сталина неоднократно вычёркивались из одних списков, чтобы потом попасть в другие. Вероятно, что и они тоже оказывали услуги следствию. Так, М.И. Баранов с ноября 1937 г. по март 1938 г. оказывался в расстрельных списках пять раз. Три раза в них зафиксированы фамилии наркомпроса А.С. Бубнова (известно, что его подсаживали в камеру к П.П. Постышеву), комиссара госбезопасности Л.Г. Миронова, цекиста Н.А. Филатова (по некоторым сведениям, донёсшего о «совещании за чашкой чая», на котором в 37-м ряд членов ЦК обсуждали вопрос о снятии Сталина), наркома В.Н. Яковлевой, причём последней высшая мера в апреле 1938 г. была заменена на 20 лет заключения (это была награда за показания против Н.И. Бухарина на процессе «правотроцкистского блока»). В 1941 г. Яковлева снова оказалась в подобном списке и погибла в числе 157 узников Орловской тюрьмы. В расстрельных списках, подготовленных для региональных троек, мог оказаться человек, уже умерший в тюрьме, что выяснялось только при составлении списков на приведение приговора в исполнение. Такие случаи фиксировались повсеместно, а на Колыме из осуждённых к высшей мере тройкой УНКВД по Дальнему Северу свыше 40 человек умерли до приведения приговора в исполнение, что было связано с сильным истощением заключённых-лагерников, которые составляли основной контингент осуждённых к расстрелу колымчан.[7]
«Лишних», то есть прокурора, судью и врача, присутствовать при внесудебной казни обычно не приглашали. Если казнь совершалась на основании судебного решения, прокурор мог присутствовать. В Москве прокурорские работники высшего ранга, включая А.Я. Вышинского, наблюдали за процедурой уничтожения видных государственных и военных деятелей, осуждённых военной коллегией Верховного Суда СССР. В апреле 1950 г. секретарь ЦК ВКП (б) Г. М. Маленков приказал ответственному контролёру КПК при ЦК ВКП (б) Захарову присутствовать при расстреле сотрудника охраны Сталина подполковника И.И. Федосеева, обвинявшегося в разглашении гостайны. Маленкову требовалось знать, не признается ли Федосеев перед казнью в разглашении неких важных сведений.
На местах при казнях зачастую присутствовал начальник отдела управления НКВД — если казнь производилась в областном или республиканском центре. Обычно это был глава учётно-статистического отдела. Начальник учётно-статистического отдела УНКВД по Новосибирской области Ф.В. Бебрекаркле (его как «подозрительного латыша» перед арестом уже не пускали на оперсовещания, но ещё доверяли присутствовать при казнях) рассказывал сокамернику, что расстреливаемые кричали: «Мы не виноваты, за что нас убивают?!» и «Да здравствует товарищ Сталин!»
В Татарии в сентябре 1937-го был отдан приказ фотографировать осуждённых и перед расстрелом сличать смертника с фотографией. При этом была ссылка на приказ НКВД № 212 от 9 июля 1935 г. В следственных делах управления ФСБ по Новосибирской области наблюдается большой разнобой: в большинстве дел фотографии отсутствуют, что касается осуждённых к высшей мере наказания, то фотокарточки налицо во многих делах 1921 г. и (не всегда) в делах первой половины и середины 1930-х. Что касается периода «Большого террора», то фотографии обычно можно найти в делах только тех лиц, которых осуждала выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР. В делах номенклатурных лиц, казнённых по приговорам военной коллегии Верхсуда в Москве в 1937 — 1941 гг., фотографии встречаются примерно в половине случаев.[8]
Факт смерти казнённого обычно устанавливали сами оперативники, приводившие приговоры в исполнение, тогда как по правилам это должен был делать врач. Между тем известно, что практика расстрелов сталкивается порой с необычайной живучестью казнимых. Отсутствие врача во время казней приводило к захоронению живых людей, которые «на глазок» считались мёртвыми.
Вот красноречивая выдержка из письма баптиста Н.Н. Яковлева председателю коллегии Всероссийского союза баптистов П.В. Павлову от 29 августа 1920 г., в котором живописалась расправа над отказниками от военной службы: «В Калаче были арестованы из 4 общ[ин] братья — одна часть баптисты и три евангельские христиане, всего 200 человек. Приехал трибунал 40(-й) дивизии и 100 братьев судили. 34 человека расстреляны, сначала ночью 20 человек, а потом на следующую ночь 14 человек; братья молились перед казнью, которая совершалась у могил. Некоторые, ещё раненые, в агонии были брошены в могилу и зарывались живыми наскоро, одному удалось бежать, он, как очевидец, может лично подтвердить..»
А вот один из крайне редких для Западной Сибири 1930-х гг. случаев расстрела в присутствии врача. 8 августа 1935 г. начальник Каменской тюрьмы Классин, начальник раймилиции Кулешов, прокурор Добронравов и нарсудья Шулан расстреляли Г. К. Овотова. Врач судмедэкспертизы Соколов констатировал, что смерть осуждённого наступила только «по истечении 3-х минут». Это лишнее свидетельство того, что огнестрельное ранение головы далеко не всегда приводит к мгновенной гибели…
Местные власти, исходя из региональных особенностей, могли вносить определённые коррективы в процедуру расстрелов. Так, в Средней Азии в конце 1920-х — начале 1930-х гг. во время подавления басмачества приговоры над осуждёнными повстанцами полагалось исполнять только лицами той же национальности.[9] С точки зрения чекистов, такая «политическая корректность» помогала избегать возможных нежелательных толков среди многонационального населения о «пришлых чужаках», которые расстреливают «наших».
«Небрежность при расстреле»
Документы свидетельствуют, что в период гражданской войны во многих губчека практиковались расстрелы политзаключённых без всякого приговора. Так, работник Енисейской губчека Дрожников весной или в начале лета 1920 г. расстрелял в Красноярске (в подвале губчека) без суда и следствия гражданина Дергачёва, обвинённого в участии в контрреволюционной организации. Следователь Тюменской губчека Василий Колесниченко и несколько его коллег в ночь на 7 мая 1920 г. без суда и следствия расстреляли троих арестованных прямо во дворе губчека.
Власти хорошо знали о порядках, практикуемых в чекистском ведомстве. И недаром, ведь именно партийные структуры распоряжались не только жизнью, но и смертью советских людей. Сиббюро ЦК РКП (б) давало указания чекистам и трибунальцам, какую именно меру наказания вынести подследственным. Протоколы заседаний Сиббюро ЦК полны примеров прямого вмешательства главного органа власти Сибири в ожидавшиеся приговоры: одни ужесточались и по ним требовали расстрелять, другие, напротив, смягчались. Один из характернейших примеров — решение судьбы колчаковских министров весной 1920 г. Отметим, что в сентябре 1921 г. Сиббюро особо выделило из своего состава С.Е. Чуцкаева в качестве представителя в полпредство ВЧК — для совместного с чекистами санкционирования приговоров к высшей мере наказания. До того времени полпред ВЧК по Сибири И.П. Павлуновский единолично давал санкции на расстрелы осуждённых.
Власти были осведомлены как о тонкостях карательной практики, так и о сбоях в её осуществлении. Например, 12 января 1922 г. Сиббюро рассмотрело «дело Левченко, бывшего члена Омгубревтрибунала, допустившего небрежность при расстреле одного осуждённого, следствием чего оказалось, что осуждённый остался живым», постановив исключить его из РКП (б), а дело передать в ревтрибунал.[10]
Аналогичные случаи были и на Северном Кавказе в 1923 г., о чём свидетельствует рассмотрение в партийных контрольных инстанциях дела А.Н. Пронина, с 1919-го работавшего в ЧК-ГПУ, а с 1922 г. подвизавшегося в ревтрибуналах. В 1923 г. Пронин, будучи членом воентрибунала Терской области Северо-Кавказского военокруга, был осуждён «за допущение расстрела и зарытия живыми до постановления заранее» (формулировка хоть и косноязычная, но всё же весьма красноречивая — А.Т.). Эта оплошность в глазах начальства выглядела пустяком: в декабре 1924-го Пронин отбыл во Владивосток на должность помощника прокурора, а в следующем году был назначен юрисконсультом Амурского губотдела полпредства ОГПУ по Дальне-Восточному краю.
Все смертные приговоры, вынесенные судебными органами, могли быть обжалованы в вышестоящие инстанции. В ходе вспышки террора осени 1934-го, когда под предлогом борьбы с саботажем хлебозаготовок секретарь Запсибкрайкома ВКП (б) Роберт Эйхе получил от Политбюро ЦК ВКП (б) право лично утверждать приговоры о высшей мере наказания, произошёл случай с расстрелом Н.В. Лебина, осуждённого в крае и затем помилованного Москвой. За недосмотр пришлось отвечать председателю Запсибкрайсуда В.А. Бранецкому-Эртмановичу, которого сняли с должности и отдали под суд. Запсибкрайком ВКП (б) постановил, что Бранецкий совершил свой проступок «в момент исключительно тяжёлой работы» — и ограничился строгим выговором. В итоге наказание оказалось символическим: общественное порицание с запретом занимать руководящие судебные должности в течение двух лет. Бранецкий устроился в Москве (на 1936 г.) заместителем директора Всесоюзной правовой академии при ЦИК СССР, а затем работал в аппарате наркомюста СССР.[11]
«Погрешности исполнения»
Как заметил узник Бутырской тюрьмы В.Х. Бруновский, большинство смертников в середине 1920-х гг. дожидались исполнения приговора довольно долго, нередко по несколько месяцев, ибо ОГПУ предлагало обречённому человеку рассказать всё, что могло интересовать чекистов, любой компромат на любых людей. И только выжав осуждённого «досуха», чекисты приводили приговор в исполнение. Подобная практика характерна и для начала 20-х годов в Сибири, и для второй половины 30-х в Москве и других регионах. Даже в период террора некоторые осуждённые высокопоставленные узники получали отсрочку. Так, знаменитый чекист и коминтерновец Б.Н. Мельников был осуждён к расстрелу в ноябре 1937-го, но один из лидеров Коминтерна Д.З. Мануильский официально попросил задержать исполнение приговора, так как смертник «мог бы ещё понадобиться». Мельников использовался как консультант по отделу международных связей Коминтерна (поскольку знал всю агентуру) и помогал руководить этим отделом прямо из камеры до июля 1938-го, когда надобность в его услугах отпала. Председатель спецколлегии Верховного суда РСФСР В.Н. Манцев был приговорён к расстрелу 25 декабря 1937 г., но оставлен в живых для того, чтобы в марте 1938-го дать показания на процессе «правотроцкистского блока». При повторном рассмотрении дела Манцев 22 июля 1938 г. был вновь осуждён к высшей мере наказания, но приговор исполнили почти месяц спустя.[12]
В 1937 — 1938 гг. тройка УНКВД по Новосибирской области не раз выносила решения о расстреле по групповым делам, «но осуждённые после этого длительное время допрашивались, так как следствие не было закончено, решение тройки в отношении этих лиц было приведено в исполнение через месяц и даже больше со дня его вынесения». По распоряжению начальника управления НКВД некоторые из осуждённых к высшей мере заключённых долгое время оставались в живых и использовались как свидетели обвинения, если соглашались оговаривать тех, кто отказывался признаться.
Нередко смертный приговор не исполнялся вовсе, причём причины такого милосердия оценить обычно можно только приблизительно. В начале 1920-х годов в сибирских губернских чека не была приведена в исполнение заметная часть смертных приговоров. Так, в самом начале января 1920 г. в Новониколаевске были приговорены к смерти по одному делу комвзвода РККА Н.М. Левин и дезертир Г. Ф. Мясников-Дальский, похитивший у него документы — последнего расстреляли, но относительно Левина находившийся тогда в Новониколаевске полпред ВЧК М.С. Кедров дал указание доследовать его дело. В итоге Левин был освобождён и возвращён в армию. Е.А. Бабинчук «за службу в колчаковской контрразведке» была осуждена Новониколаевской ЧК первый раз к ВМН 20 мая 1920 г., но расстреляли её после повторного приговора, состоявшегося 13 января 1921 г. В 1920-м сотрудник Томской РТЧК А.А. Маркин был осуждён к расстрелу, но уже в декабре того же года его освободили по октябрьской амнистии. Секретарь югославской секции при Томском губкоме РКП (б) Мариус Циприяни был в 1920-м арестован и осуждён к расстрелу с последующей заменой на тюремное заключение; в 1922 г. его выслали за пределы РСФСР.
Активно вмешивались в судебные решения партийные власти. Так, в начале декабря 1921 г. Сиббюро ЦК РКП (б) сочло возможным передать на поруки товарищей по партии некоего Подпорина, которого Омская губчека приговорила к расстрелу, а в конце июня 1922 г. освободило также приговорённого к высшей мере наказания коммуниста Макарова.
Случалось, что центральные власти приказывали задерживать исполнение смертных приговоров над определёнными категориями осуждённых. Так, 25 марта 1921 г. ВЧК разослала в свои местные органы циркуляр, приостанавливавший расстрелы осуждённых латвийских граждан — «до особого распоряжения ВЧК».
Процесс преобразования ВЧК в ГПУ привёл к мораторию на исполнение многих смертных приговоров. В конце 1921 г. Иркутская губчека приговорила к смертной казни Д.О. Тизенгаузена, бывшего вице-губернатора Якутии, но довольно скоро его освободили. Жена белого офицера Анастасия Шлюцер, осуждённая в июне 1921 г. Челябинской губчека за побег из концлагеря и распространение прокламаций, в итоге не была казнена именно из-за реорганизации, хотя до неё оставалось более полугода.
Немало осуждённых к высшей мере уцелело в 1920 — 1922 гг. на Алтае. Например, 13 августа 1920 г. Алтгубчека приговорила к ВМН жителя с. Енисейск Бийского уезда К.А. Горохова — как организатора ячейки «Крестьянского союза», к тому же вооружённого наганом. Возможно, его пощадили и освободили (нескоро, лишь в январе 1923-го) как провокатора, поскольку несколько месяцев спустя Горохов был принят в компартию.
Быстрое окончание «большого террора» после совместного постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 17 ноября 1938 г. оказалось спасительным для значительного числа арестованных. Как показал на допросе бывший оперативник отдела контрразведки УНКВД Запсибкрая Л.А. Маслов, к осени 1937-го камеры в «особом корпусе» новосибирской тюрьмы № 1 были переполнены, а учёт арестованных — запутан. Некоторых это обстоятельство спасло: просидев забытыми под замком много месяцев, они пережили период массовых казней и вышли на свободу. В тюрьмах Ленинграда к середине ноября 1938 г. находилось 12.330 заключённых, из которых 2.529 были осуждены местной тройкой. Многие были приговорены к расстрелу, но уцелели благодаря ликвидации тройки и признания её последних постановлений недействительными.[13]
Терминология
Коммунистическая власть нередко избегала прямого наименования способа казни своих врагов. Слово «расстрел» считалось не совсем подходящим (кроме периода гражданской войны и 1930-х гг., когда газетные заголовки кричали о необходимости расстреливать врагов народа). Секретность казней отразилась на терминологии. От лица государства официально употребляли термины «высшая мера наказания» или «высшая мера социальной защиты». В обиходе чекисты и военные массовые убийства также маскировали различными уклончивыми терминами: «разменять», «отправить в штаб Духонина (Колчака)», «пустить в расход». В 1920-е годы в чекистском жаргоне появился особенно циничный термин для конспиративного обозначения расстрела — «свадьба» (надо полагать, имелось в виду венчание со смертью). Но расстреливавшие могли позволить себе и более «изысканные» выражения, вроде «переведены в состояние небытия».
В тридцатые писали так: «убытие по первой категории», «десять лет без права переписки», «спецоперация». Исполнители в объяснениях могли недоговаривать фразу, опуская уточняющее слово — дескать, «я приводил приговор». Характерно, что эсэсовцы также маскировали слово «убийство», употребляя такие эвфемистические выражения, как «особая акция», «чистка», «приведение в исполнение», «исключение», «переселение».[14]
Штучная должность
При создании органов ЧК в их структуре были предусмотрены особые комендантские отделы, призванные заниматься «ликвидациями». Активными участниками расстрелов были и начальники тюрем. Комендантская или тюремная должность, несмотря на кажущийся чисто технический характер, сразу стала значительной. Именно из комендантов ВЧК буквально прыгнул к высоким постам будущий заместитель Ежова Леонид Заковский. Обычно комендант либо начальник тюрьмы являлись доверенными лицами председателя губчека или руководителя отдела в центральном аппарате ВЧК.
Характерно, что назначенный в 1920-м полпредом ВЧК по Сибири Иван Павлуновский привёз из Москвы Эдуарда Зорка, работавшего в подведомственном Павлуновскому Особом отделе ВЧК помощником начальника тюрьмы, сделав его руководителем тюрьмы полпредства ВЧК. Дежурный комендант (то есть помощник коменданта) полпредства ВЧК по Сибири С.Н. Ценин в 1920-м сразу вошёл в состав бюро немногочисленной тогда гебистской партячейки. Феликс Гуржинский, комендант полпредства ВЧК-ОГПУ по Сибири с 1920-го, был в 1925 г. членом Новониколаевской окружной контрольной комиссии ВКП (б), то есть являлся заметной фигурой в городской партноменклатуре.[15]
В первой половине 1920-х гг. начальником Внутренней тюрьмы на Лубянке работал К.Я. Дукис; в конце 1929-го он усилил своё влияние, будучи одновременно начальником Тюремного отдела ГПУ, начальником Внутренней тюрьмы и комендантом Бутырской тюрьмы. Просидевший четыре года в большевистском застенке бывший эсер и видный хозяйственник В.Х. Бруновский, обвинявшийся в шпионаже и приговорённый к расстрелу, но в конце концов освобождённый как иностранный подданный, в своих мемуарах весьма подробно описал характер и привычки этого видного палача. Также узник пытался вести статистику казней за 1926 г. Бруновский насчитал 227 расстрелянных в Бутырской тюрьме, преимущественно политзаключённых. Совершенно точно Бруновский указывает на то, что групповые расстрелы производились в печально известном здании в Варсонофьевском переулке (до 1925 г. казнили прямо в тюремной бане). Выводили смертников на казнь обычно после девяти вечера.[16]
За три года нахождения в камере смертников внутренней тюрьмы Бруновский собрал немало сведений о палачестве Дукиса. В мае 1924 г. Бруновский услышал шум, крики и револьверные выстрелы: оказалось, что семеро анархистов (с некоторыми из них он наладил переписку) взбунтовались при выводе на расстрел, «оказали бурное сопротивление, и в результате 4 анархиста и 1 бандит были комендантом тюрьмы (палач Дукис) самолично расстреляны на площадке лестницы второго этажа, а 14 человек убили в подвале тюрьмы в бане». Несколько недель спустя при обходе камер комендантом один из анархистов ударил Дукиса медным чайником по голове в знак протеста против тюремного режима. В ответ Дукис застрелил и нападавшего, и его сокамерника.
С точки зрения чекистов, хороший начальник тюрьмы или комендант — это штучная должность, требовавшая человека закалённого и проверенного. Такими кадрами дорожили всё время, поэтому и в центре, и на местах исполнители приговоров были весьма важными персонами. Своеобразная «приватизация» комендантов региональных управлений ОГПУ-НКВД была общей и многолетней тенденцией. Глава чекистов Запсибкрая Леонид Заковский в 1932-м увёз с собой в Минск коменданта западносибирского полпредства Н.М. Майстерова, а пришедший на смену Заковскому Николай Алексеев специально захватил в Новосибирск с прежнего места работы коменданта полпредства ОГПУ по Центрально-Чернозёмной области М.И. Пульхрова. В 1936-м Пульхрова заберёт в Красноярск Анс Залпетер, получивший повышение и с должности замначальника УНКВД Запсибкрая переведённый на пост начальника УНКВД по Красноярскому краю. Начальник УНКВД по Запсибкраю в 1935 — 1936 гг. Василий Каруцкий точно также не забудет про своего верного человека: С.С. Хайнал, в 1925 г. дежурный комендант ГПУ Туркмении, где тогда Каруцкий был начальником, прибудет в 1935 г. в Новосибирск вместе со своим прежним покровителем, став к тому времени личным секретарём Каруцкого.
Среди комендантов большой процент занимали латыши, например, Эдуард Зорк и Ян Вильцин в Омске и Новониколаевске; в Москве комендантами ВЧК работали Леонид Заковский, Пётр Магго и Карл Вейс (последний, кстати, был осуждён коллегией ОГПУ 31 мая 1926 г. на 10 лет лишения свободы «по обвинению его в сношениях с сотрудниками иностранных миссий, явными шпионами»).[17] Встречались венгры, например, И. М. Хорват в Амурском губотделе ОГПУ. Латыши, мадьяры, китайцы были на заре ЧК и вспомогательным персоналом при массовых «ликвидациях».
Нередко рядовые коменданты переводились на оперработу и продвигались по службе. Показательна судьба Сергея Шкитова, красноярского слесаря с начальным образованием, анархиста-коммуниста. В 1907-м только что достигший совершеннолетия Шкитов «лично участвовал в убийстве начальника Красноярской тюрьмы Смирнова, старшего городового Юсупова, в Благовещенске при задержании убил городового и ранил агента охранного отделения, участвовал в нескольких экспроприациях в 1908 — 1909 гг.». В октябре 1907 г. был арестован, бежал; жил в Красноярске, ранив жандарма, скрылся от ареста и уехал в Благовещенск. Так он бегал от жандармов до самой революции, а затем вновь оказался замешан в уголовную историю: в конце апреля 1918-го Шкитова обвинили в убийстве красногвардейца Ночвина и арестовали. Через месяц с небольшим, впрочем, освободили.
В начале 1920-го он уже комендант участковой транспортной ЧК станции Красноярск и Минусинской уездчека, а в 1920 — 1922 гг. — комендант Енисейской губчека. Возможно, именно работа Шкитова и ему подобных в расстрельном подвале Енгубчека послужила материалом для шокирующей своим натурализмом повести сибирского писателя В.Я. Зазубрина «Щепка» (Зазубрин для этой повести об адептах красного террора собирал сведения от всех чекистов, которых мог найти и разговорить, «вылавливая» их даже в психлечебницах). Далее Шкитову поручали руководство Хакасским, Тулунским и Каменским окротделами полпредства ОГПУ Сибкрая. Тряхнуть стариной он не забывал: так, 26 сентября 1930 г. Шкитов участвовал в расстреле 21 участника так называемой повстанческой организации «Чёрные». Но в начале 1930-х он работал уже начальником второстепенного отдела полпредства ОГПУ по Восточно-Сибирскому краю в Иркутске и его карьера неуклонно шла вниз.[18] Комендант Омской губчека М.И. Воевода в начале 1920 г. был назначен председателем Славгородской уездной чека. Можно указать и на помощника коменданта сначала Уфимской, а затем Омской губчека Василия Смирнова, ставшего в 1923-м помощником начальника контрразведывательного отдела полпредства ГПУ Сибири. Комендант ревтрибунала и губчека в гражданскую войну Григорий Сыроежкин, впоследствии выполнявший ответственные поручения Контрразведывательного отдела ОГПУ за границей, дослужился до звания майора госбезопасности. Другие спивались, не выдерживая конвейера смерти, и их изгоняли из органов. Пьянство среди начальников тюрем и комендантов было беспробудным. Тем не менее, немало их отработали по двадцать и более лет, уничтожив многие тысячи осуждённых — например, москвичи П.И. Магго, награждённый двумя орденами, и В.М. Блохин — комендант ОГПУ-НКВД СССР с 1926 по 1953 гг., уволенный с должности коменданта МГБ СССР в чине генерал-майора. Немало откровенных садистов находило своё призвание в палаческом ремесле, оставаясь на работе в комендатурах на многие годы.
Исполнители испытывали страшные психологические перегрузки. Профессиональные палачи дежурно жаловались на совершенно подорванное здоровье, прежде всего нарушения психики. Они часто заболевали эпилепсией, кончали жизнь самоубийством, совершенно спивались. Но начальство могло предложить им, помимо ведомственного уважения, только обилие алкоголя, премии, ордена да вещи казнённых по дешёвке.
Зная о специфике работы чиновников тюремного ведомства и комендантов, партийные власти снисходительно относились к их пьянству, воровству и другим преступлениям, подчас даже заступаясь за них перед чекистскими начальниками. Так, комендант Томской губчека (32-летний портной с двухлетним партстажем) Алексей Бырганов с 1 сентября 1920 г. был уволен и осуждён на полгода принудительных работ за хищение спирта из ЧК, пьянство и «распутную жизнь». Его откомандировали в комфракцию при профсоюзе рабочих-швейников, затем ненадолго арестовали, а после освобождения по инициативе губчека привлекли к партийной ответственности за «выпивку». Но Томская губКК РКП (б) в январе 1921 г. ограничилась вынесением Бырганову строгого выговора, «т. к. выпивка была при исключительно тяжёлой деловой работе перед расстрелом». Бывший комендант заведовал горсадом, затем магазином Синдшвейпрома, получил несколько выговоров за пьянство и халатность. И только в 1925-м партийные власти Томска исключили Бырганова из «рядов» как «примазавшийся элемент с тёмным прошлым, скрывший судимость».
Ведомственный контроль тоже не отличался строгостью. Комендант Славгородского политбюро М.С. Теплых (бывший командир эскадрона 26-й дивизии РККА, демобилизованный после трёх ранений) в августе 1921 г. вместе с сотрудником политбюро К.Ф. Дидякиным оказался под следствием. Чекисты брали взятки самогоном от жён арестованных граждан и обещали освободить заключённых, взяв их на поруки, но этого обещания не выполнили. В результате, как отмечал проверявший дело помощник уполномоченного секретного отдела Алтгубчека М.Г. Рыбаков, «у обывателей сложился взгляд на политбюро как на орган взяточничества и самопроизвола». Однако Рыбаков предложил простить обоих: Тёплых — как имеющего «громадные» революционные заслуги, Дидякина — как неопытного и молодого работника.[19]
Тем не менее, чистка 1921 г. закончилась для многих комендантов исключением из партийных рядов. В Иркутске коменданта губчека Никонова сгоряча приговорили к расстрелу — за разные злоупотребления, включая пьяные приставания к женщинам, но опомнились и совершенно амнистировали. Летом 1921-го Никонов безуспешно пытался восстановиться в партии. Старшие партийные товарищи пытались бороться за Василия Рязанова, участника гражданской войны и партизана, который, будучи помкоменданта Новониколаевской губчека, разочаровался в коммунистах и подал заявление о выходе из партии. 26 сентября 1921 г. губкомиссия по чистке РКП (б), рассмотрев его заявление, отметила «малосознательность в политическом отношении» Рязанова и «неизжитый партизанский дух», постановив оставить вопрос о партийности чекиста открытым. Поскольку «малосознательный» экс-партизан Рязанов упорствовал, его в итоге всё-таки исключили из партии — за «несогласие с тактикой РКП». Комендант Тюменской губчека Л.Д. Болдырев с марта 1921-го был переведён в Енисейскую губчека, где во время партчистки его исключили из РКП (б) за пьянство.
В период 1920 — 1930-х гг. коменданты полномочных представительств ОГПУ и оперсекторов нередко держались на своих местах многие годы, пользуясь покровительством сменяющихся начальников. Наказывали их за пьянство и прочие злоупотребления не так часто, как прочих чекистов. Некоторые из них показывали — по крайней мере, на словах — желание исправиться. Комендант Иркутского окротдела ОГПУ Максим Прашман (украинский рабочий, в гражданскую войну работавший председателем ревтрибунала) летом 1929-го на партчистке заявил, что радикально уменьшил потребление спиртного: «ранее выпивал, сейчас (пью) редко, и то пиво».
Биография другого выглядит более характерно. Михаил Зайцев с 1925-го служил курсантом в омской пехотной школе, три года спустя был отчислен по неуспеваемости и тут же поступил в Омский окротдел ОГПУ: сначала надзирателем, потом дежурным комендантом. 3, 4 и 5 мая 1933 г. он руководил опергруппой, приводившей в исполнение расстрел 281 осуждённого по «заговору в сельском хозяйстве». Далее, насколько известно, объёмы работы Зайцева снизились — с мая по октябрь 1934-го он участвовал в расстрелах десяти человек, осуждённых краевым судом. Не раз Зайцев получал партвыговоры «за пьянку»; в июле 1934 г. на партчистке в Омском оперсекторе НКВД, признав, что «с проститутками был в компании, пьянствовал..», оказался исключён из ВКП (б), но ещё некоторое время сохранял должность.
Тюремные работники «путешествовали» по всей стране точно так же, как и остальные чекисты. Вот начало биографии одного из многих основоположников будущей системы ГУЛАГа, пришедшего в неё из военных рядов: Аукэ Фердинанд Вильгельмович, 1889 г. р., немец, образование начальное. С 1903 г. работал по найму, механик. С 1917-го служил в отдельной Латышской дивизии, комбат. Большевик с 1917 г. С 1921 г. командир 275-го полка 29-й дивизии. С 11 августа 1922 по август 1924 г. комендант Соловецкого концлагеря ОГПУ. С 8 августа 1924 по 1 ноября 1925 г. начальник исправтруддома в Архангельске. В 1925-м получил строгий выговор с предупреждением от Архангельской губКК РКП (б) за «вступление в брак по церковному обряду»; в 1926-м — строгий выговор «за выпивку». С 10 декабря 1926 г. Ф.В. Ауке работал начальником Канского исправтруддома в Сибирском крае.[20]
Классовая месть
Чекисты воспринимали участие в экзекуциях как малоприятную, но совершенно необходимую обязанность М.П. Шрейдер в мемуарах, упоминая о коллегах, работавших комендантами, с полным сочувствием к ним замечал, что это были несчастные люди, вынужденные глушить себя алкоголем. Те, кто прошёл через гражданскую войну, попав затем в систему карательных органов, легко распоряжались чужими жизнями и не боялись вида чужой смерти. Мотив классовой мести играл значительную роль при поступлении в ЧК: например, бывший узник «эшелона смерти» Г. А. Линке, этапированный из Новониколаевска на Дальний Восток, с июня 1921 г. работал комендантом Амурского облотдела Госполитохраны ДВР в Благовещенске. Н.М. Майстеров, с 1922 г. трудившийся комендантом Енисейской губчека, а затем работавший комендантом полпредства ОГПУ Сибкрая, потерял брата, убитого белыми в Каинской тюрьме летом 1918-го.
У столяра Барнаульского уезда и большевика с 1917-го А.Ф. Щербакова жену зверски замучили белые каратели. Ему передали последние слова супруги, которой палачи отрезали груди: «То, что вы делаете со мной, мой муж будет делать с вами..» 35-летний Щербаков дезертировал из полка и в марте 1920-го записался в свежеобразованную Новониколаевскую губчека. Проработав месяц, был арестован за самовольную отлучку из полка и ревтрибуналом 5-й армии присуждён к отправке в другой полк. Но уже с конца мая 1920 г. Щербаков числился сотрудником для поручений Новониколаевской чека. Он исправно участвовал в арестах и давал свидетельские показания против некоторых арестованных, но этого Андрею Фёдоровичу было мало — и в 1921-м он в течение восьми месяцев работал помощником коменданта. Затем Новониколаевским губкомом РКП (б) Щербаков был отозван из губчека и назначен отделенным комендантом местного концлагеря. Впоследствии он год учился в комуниверситете им. И.Н. Смирнова, но выше кассира «Хлебопродукта» и заведующего выплатным пунктом Бийской страхкассы не поднялся…
Вокруг известных лиц из числа казнённых их палачами создавался некий мистический ореол. Труп видного врага вызывал острое любопытство. После уничтожения 10 апреля 1922 г. остатков повстанческой армии подъесаула А.П. Кайгородова отрубленная голова мятежника, много месяцев державшего в страхе коммунистов Горного Алтая, была послана начальником карательного отряда И.И. Долгих в Барнаул в ящике со льдом. Начальник 21-й дивизии Г. И. Овчинников принёс голову Кайгородова в большой кастрюле со спиртом прямо на заседание Алтайского губисполкома, после чего трофей отправили в Новониколаевск — на любование вышестоящему начальству.[21]
«И именно расстреливать..»
Комендантские отделы, вопреки распространённому мнению, отнюдь не были монополистами в исполнении бесчисленных смертных приговоров. У чекистов 1920-х годов вообще считалось хорошим тоном лично приводить в исполнение приговор над осуждённым именно тем следователем, который вёл дело. Считалось, что такой порядок повышает ответственность чекиста за результат расследования. По воспоминаниям Г. Агабекова, в Екатеринбурге в 1921 г. руководящие работники губчека постоянно помогали расстреливать, после чего «напивались до положения риз и не показывались на службе по два, по три дня». И это не было их стихийной инициативой — в начале 1919-го ВЧК секретнейшей шифровкой обязало руководящих работников (членов коллегий) губернских и республиканских чека непременно участвовать в казнях «контрреволюционеров», о чём есть прямые свидетельства: объяснительная записка председателя Брянской губчека А.Н. Медведева в ЦК РКП (б) от 19 декабря 1919 г. и показания главы Тульской губчека Прокудина от 15 марта 1919 г.[22]
Такое положение считалось чекистами вполне логичным. Сын дьякона Фёдор Богословский, убежавший сразу после окончания гимназии в 1917 г. из дома и работавший в 1920-м скромным завхозом в одном из отделов 5-й армии Восточного фронта, пояснял, уже будучи начальником Якутского облотдела ГПУ, что, под влиянием «ежедневного озлобления, испытываемого мною против белого террора, последствия коего я постоянно наблюдал во время работы на фронте», у него появилось «сильное желание, несмотря на совершенно другое воспитание в семье и школе, работать в органах ВЧК и именно расстреливать».
Пресловутый глава военной коллегии Верхсуда СССР В.В. Ульрих, в первой половине 20-х годов работник Особого отдела ВЧК и помощник начальника КРО ОГПУ, постоянно участвовал в казнях. В конце 1925 г. знаменитый английский разведчик Сидней Рейли был казнён прямо во время прогулки оперативниками КРО ОГПУ в присутствии К.Я. Дукиса.
Личное участие в казнях было в двадцатых и тридцатых годах также своеобразным посвящением в чекисты. Упоение «беспощадностью» запечатлелось в традиционной формулировке награждений 1920 — 1930-х годов — «за беспощадную борьбу с контрреволюцией». И действительно, многие сибирские расстрелы начала 1930-х гг. сопровождались привлечением к основным исполнителям (коменданту или дежурному коменданту) рядового оперативника. Было ли это личной инициативой полпреда Л. М. Заковского, столь хорошо знакомого со спецификой комендантской должности? Наверняка нет, ибо, например, в южной России в 1930 г. к казням «кулаков» привлекались даже партийные функционеры и трудно представить себе, чтобы рядовой оперсостав смог бы избежать участия в почётном труде по столь «массовидному» (как выражался Ленин) истреблению «врагов народа» в период коллективизации.
Например, начальник Барнаульского оперсектора ОГПУ И.А. Жабрев сознательно вязал свой аппарат кровавой порукой, одновременно воспитывая у следователей чувство безнаказанности: сами арестовали сотни крестьян по поддельным справкам о кулацком происхождении, сами пытали, сами и расстреляли. Все концы в воду. Расстрел 327 осуждённых по заговору в «сельском хозяйстве» в ночь на 28 апреля 1933 г. был осуществлён 37 сотрудниками оперсектора под руководством помощника Жабрева П.Ф. Аксёнова. Массовые казни остальных жертв этого «заговора» были осуществлены в большинстве подразделений полпредства, причём только в Омском оперсекторе основная нагрузка выпала на долю комендантского состава; в остальных оперсекторах, городских и районных отделах ОГПУ расстреливали в основном оперативные работники — как руководящие (начальник Томского оперсектора М.М. Подольский), так и рядовые. Отметим, что участвовавший в расстреле 327 «заговорщиков» барнаульский чекист М.А. Клеймёнов несколько месяцев спустя в знак протеста против беззаконий дезертировал из ОГПУ и перешёл на нелегальное положение.
Полагаю, обязательно следует учитывать исключительное и переломное для чекистской жизни значение расстрельной практики начала 1930-х гг., ибо после гражданской войны в период нэпа чекисты обычно не практиковали массовых убийств, хотя и были к ним готовы (подавление постоянных мятежей на Северном Кавказе, карательные кампании в Якутии 1927 — 1928 гг., истребление бандитов в Сибирском крае в 1925 — 1927 гг.). Для периода 1930 — 1933 гг. характерен стремительный рост численности органов ОГПУ, приход огромного количества совершенно неподготовленных кадров. Их, похоже, поголовно «крестили кровью».
С конца 1929 г. в Новосибирске, основных городах края (да и во многих рядовых райцентрах тоже) начинается длившийся до 1934 г. период постоянных массовых расстрелов (в 1935 — 1936 гг., накануне «Большого террора», из-за отсутствия местных внесудебных органов с правом вынесения приговоров с высшей мерой наказания, расстрелов было намного меньше). Чтобы комендатуры справлялись со своими палаческими функциями, в помощь к ним привлекали и начальников горрайотделов, и начинающих оперработников, а нередко и фельдъегерей, и милиционеров. Так шла охота за двумя зайцами — комендатуры получали техническую помощь, а чекисты заодно с милиционерами — специфическую закалку.
Акт о расстреле составлялся в достаточно свободной форме. Старший горсудья г. Бийска Прапорщиков изощрялся, в деталях описывая способ казни во всех составленных им актах: так, над расстрелянным 27 марта 1933 г. «за хищение соц. собственности» Е.М. Чурилиным «приговор в 23 часа 25 минут приведён в исполнение посредством произведения четырёх выстрелов из нагана в область затылочной части головы..»; осуждённого по указу от 7 августа 1932 г. А.М. Киреева казнили 7 апреля 1933 г. «через посредство выстрела двух пуль из нагана в голову»; двух осуждённых по этому же указу казнили 15 августа 1933-го «через посредство выстрела из револьвера системы „Наган“ в область задней части затылка». Обычно стреляли в голову два-три раза: опергруппа НКВД ТАССР, расстрелявшая за 26 августа, 21 и 26 сентября 1937 г. 38 осуждённых, отчиталась за расход 84 патронов к револьверу «наган».
Среди палачей, вероятно, находились и добровольцы, не относившиеся к оперсоставу. Так, в казнях 1933 — 1934 гг. постоянно участвовал начальник кирпичного завода при бийском изоляторе коммунист М.Ф. Трунов, в 1937-м работавший в штате Бийского горотдела НКВД. Зафиксировано в те же годы участие в расстреле и ещё одного начальника бийского кирзавода — Павлова.[23] Руководящие работники местных чекистских органов тем более постоянно практиковались в казнях: так, начальник экономического отделения Барнаульского оперсектора ОГПУ Г. А. Линке 2 ноября 1932 г. участвовал в расстреле группы из 13 осуждённых.
Не только суровые мужчины исполняли приговоры. Красноречивую информацию о полной эмансипации судейского сословия даёт следующий акт о расстреле от 15 октября 1935 г.: «Я, судья города Барнаула Веселовская, в присутствии п/прокурора Савельева и п/нач. тюрьмы Дементьева. привела в исполнение приговор от 28 июля 1935 о расстреле Фролова Ивана Кондратьевича». Старшая нарсудья г. Кемерова Т. К. Калашникова вместе с двумя чекистами и и. о. горпрокурора 28 мая 1935 г. участвовала в расстреле двух уголовников, а 12 августа 1935 г. — одного.
Участие в расстрелах «врагов народа» считалось партийными властями одним из наивысших проявлений лояльности. В марте 1925 г. при проверке партдокументов работника Кубанского окротдела ОГПУ Воронцова, работавшего в ЧК с 1919-го и исключённого из РКП (б) по подозрению в хищении ценностей при обыске, партийная комиссия сделала следующий примечательный вывод: «Участвовал во многих расстрелах и женат на жене бывшего офицера, ныне убитого. Считать проверенным и вполне достойным службы в органах ВЧК-ГПУ».[24]
Технология
Способы расправ в гражданскую войну были разнообразны: главенствовал расстрел, но любили душить с помощью удавки (для бесшумности, или с целью экономии патронов, или из садистских соображений, чтобы наблюдать предсмертные судороги жертвы). Но также рубили шашками (особенно во время подавления крестьянских мятежей), топили, замораживали, сжигали, зарывали живыми в землю. Дикости гражданской войны во многом повторились позднее — в эпоху коллективизации и «Большого террора».
О том, как выглядели чекистские расстрельные подвалы в первые годы советской власти, яркое и достоверное описание оставил член Сибревкома В.Н. Соколов, в июне 1920 г. обследовавший работу Енисейской губчека, чьё руководство во главе с В.И. Вильдгрубе за несколько недель (с марта) расстреляло более 300 человек. В телеграмме, адресованной в Сиббюро ЦК РКП (б), он сообщал: «Расстреливали в подвалах на дворе. Говорят о пытках в этом подвале, но когда я его осматривал (он) оказался закрытым, и я подозреваю, что его подчистили. Кровь так и стоит огромными чёрными лужами, в землю не впитывается, только стены брызгают известью. Подлый запах. гора грязи и слизи, внизу какие-то испражнения. Трупы вывозят ночью пьяные мадьяры. Были случаи избиения перед смертью в подвале, наблюдаемые из окон сотрудниками чека».
В начале 1920-х в казнях участвовали нередко довольно большие группы чекистов во главе со своими начальниками. Дуревшие от спирта и крови расстрельщики не гнушались издеваться над обречёнными или даже уже мёртвыми людьми. Так, начальник оперпункта ОДТЧК станции Омск Ю. Я. Бубнов, присутствуя при расстреле пяти человек, 14 августа 1921 г. вместе с начальником Водного отдела Сибирской Окружной транспортной ЧК К. Лацем «допустил в пьяном виде хулиганские выходки, за что был арестован» — исполнители приговоров «издевались над трупами, стреляя в задние части тела». По этому делу Омская губчека проводила расследование, обвиняя чекистов в пьянстве при исполнении служебных обязанностей. Коллегией губчека Бубнов и Лац в начале ноября 1921 г. были освобождены из-под стражи по амнистии с зачётом предварительного заключения и изгнаны из органов ВЧК без права поступления (но впоследствии Бубнова вновь приняли в ОГПУ-НКВД на руководящую работу).[25]
Палачи цинично похвалялись своим умением убивать с первого выстрела. Агентурные материалы наблюдения за работниками новониколаевской тюрьмы (исправительно-трудового дома № 1) свидетельствовали о том, что её начальник Иосиф Азарчик вместе с помощниками избивает арестованных, каждый день пьянствует и постоянно ездит в притоны к проституткам. Кучер Азарчика В. Борисовский в мае 1923 г. показал, что 30 апреля начальник тюрьмы вывел во двор связанного заключённого А. М. Никольского, приговорённого по ст. 60 и 66 УК РСФСР губсудом 23 марта к высшей мере наказания. Осуждённого «шпиона» посадили в коляску, куда забрались И.Е. Азарчик, его помощник Шереметинский и три надзирателя, после чего все уехали. «На другой день мне товарищ Азарчик говорил: «Вот вчера был интересный случай — расстреляли Никольского, не живучий, стерва, как ударил (его из нагана) в затылок, так не пикнул, а Шереметинский выстрелил уже в мёртвого». На мой вопрос, куда его дели, Азарчик ответил: «Бросили в Обь караулить воду».[26]
Таким образом, традиция убивать пулей в затылок с последующим контрольным выстрелом установилась достаточно рано, также как и «захоронение» где-нибудь в ближайшей реке. В Ангару были сброшены тела адмирала А.В. Колчака и главы колчаковского правительства В.Н. Пепеляева. В декабре 1920 г. тюменские чекисты печатно оправдывались в связи с расстрелом и сбрасыванием в прорубь 17 трупов расстрелянных — об этом сразу узнало местное население, которое громко негодовало по поводу большевистских зверств.[27]
Большого мастерства в ремесле палача достигали и обычные оперативники. Расследовавший убийство Павлика Морозова помощник уполномоченного Тавдинского райаппарата ОГПУ по Уралу Спиридон Карташов в 1982 г., будучи персональным пенсионером, дал интервью писателю и исследователю Юрию Дружникову. Этот чекист, не достигший каких-то заметных постов и уволенный из «органов» как эпилептик, вспоминал: «У меня была ненависть, но убивать я сперва не умел, учился. В гражданскую войну я служил в ЧОНе. Мы ловили в лесах дезертиров из Красной армии и расстреливали на месте. Раз поймали двух белых офицеров, и после расстрела мне велели топтать их на лошади, чтобы проверить, мертвы ли они. Один был живой, и я его прикончил. ..Мною лично застрелено тридцать семь человек, большое число отправил в лагеря. Я умею убивать людей так, что выстрела не слышно. (..) Секрет такой: я заставляю открыть рот и стреляю (туда) вплотную. Меня только тёплой кровью обдаёт, как одеколоном, а звука не слышно. Я умею это делать — убивать. Если бы не припадки, я бы так рано на пенсию не ушёл».[28]
Нередко на счету видных чекистов-оперативников первых лет советской власти были многие десятки и сотни исполненных приговоров. Осенью 1921 г. начальник секретного отдела Новониколаевской губчека Карл Крумин так характеризовал работу начальника секретно-оперативного отдела и зампреда губчека Сергея Евреинова: «Тов. Евреинов лично принимал участие и проявлял максимум энергии в раскрытии нескольких белогвардейских организаций. Сам лично расстреливал участников в количестве нескольких сотен человек. (..) Кто думает бросить тень сомнения на таких революционеров, тот враг Революции». Малограмотно, но ещё более эмоционально высказался, в свою очередь, о заслугах Карла Крумина сам Сергей Евреинов: «..Отправляя на тот свет десятки сволочи, безусловно, его место в рядах РКП!»
Сам Крумин похвалил себя в следующих выражениях: «В результате моей упорной работы в чека расстреляна масса видных белогвардейцев. Сам лично участвовал и действительно раскрывал: во Владимире — белогвардейскую организацию „Владимирский офицерский батальон“. В Омске: „Организацию полковника Орлеанова — Рощина“, организацию офицеров „Самозащита“, и в г. Новониколаевске: „Сибирское Учредительное Собрание“, организацию „Союз мира“ (офицерскую), организацию белоэсеровскую „Сибирско-Украинский союз фронтовиков“. (..) Интересующимся моей личностью советую обратиться за справками в архивы чека (о) расстрелянных белогвардейцах и (спросить) у уцелевших в лагере. Обычно белые меня не любят и считают сволочью, а это равносильно ордену Красного Знамени от Рабоче-крестьянского правительства».
Следственные дела говорят, что в Новониколаевске в казнях весны и лета 1921-го обычно участвовал С.А. Евреинов, но иногда его подменял секретарь коллегии губчека И.Е. Богданов, бывший начальник Сибмилиции. Изувер Евреинов, перенёсший в 1920-м, работая в Омской губчека, психическое расстройство, был большим педантом: непременно указывал дату расстрела с точностью до минуты, писал чётко, расписывался лихо, с росчерком..[29]
Место казней в провинциальных актах о расстрелах фиксировалось обычно приблизительно. В начале 1920-х оно чаще всего не указывалось вовсе. В 1930-х гг. в зависимости от местных условий могли расстрелять в тюрьме, а потом вывезти труп для захоронения на кладбище. Так, 3 сентября 1933-го по указу от 7 августа 1932 г. два человека были расстреляны «в расположении Барнаульского домзака». Однако очень часто хоронили прямо на месте казни где-нибудь в укромном месте. 19 октября 1932 г. в с. Западный Сузун Лушниковского района Запсибкрая «на местном кладбище в расстоянии 1-го км от села» расстреляли осуждённого райуполномоченный ОГПУ И.Л. Будкин заодно с запасным членом крайсуда Наумовым и райпрокурором А.К. Потёмкиным. Работники комендатуры полпредства ОГПУ по Запсибкраю 11 апреля 1933 г. составили акт о расстреле 84 человек, осуждённых по делу «заговора в сельском хозяйстве», отметив, что порученное дело было «исполнено в 24 часа за городом (Новосибирском)». Вот примеры за 1934 г.: «расстрелян и похоронен на новосибирском кладбище»; «тело Данилова предано земле, г. Томск»; «приговор исполнен путём расстрела в поле на Каштаке около Томска». Часто расстреливали в 1934-м в сёлах-райцентрах Западно-Сибирского края: Мошкове, Болотном, Алтайском. В 1935-м расстрелянных уголовников работники оперчекотдела Сиблага в г. Мариинске хоронили в «северной стороне» городского кладбища.[30]
Нередко расстреливали и в весьма дальних окрестностях городов и посёлков. В актах Запсибкрайсуда за 1934 г. можно найти такие многочисленные примеры: «зарыты в окрестностях г. Сталинска», «за городом (Ачинском — А.Т.) в полутора километрах упомянутые лица расстреляны»; расстрелян «в 12 часов ночи в расстоянии от города (Ачинска — А.Т.) 3 км»; «Антипина расстреляли в 4 км за городом (Ачинском — А.Т.)»; «трупы их преданы земле и закопаны в 3 клм от ст. Топчиха»; «труп его предан земле и закопан в 4 клм от ст. Топчиха»; двух человек расстреляли «на территории ст. Алейская»; «погребены в могиле на степи, в расстоянии от г. Славгорода на 17 км»; расстреляли двух человек «в пяти километрах от гор. Черепаново» и «предали земле на глубину двух метров» (отметим, что нормы предписывали хоронить расстрелянных именно на двухметровой глубине).[31]
Подробности исполнения приговоров могли использоваться следователями для запугивания арестованных — так, особист Омского оперсектора ОГПУ М.А. Болотов в 1933 г. говорил одному из них: дескать, «поведут в подвал. при этом сотрудник, который меня поведёт, будет идти сзади и даст мне несколько выстрелов в затылок..» Арестованные в годы террора чекисты, отлично зная о способах расправы, иногда теряли самообладание: так, бывший начальник отдела УНКВД по Новосибирской области старый чекист П.Ф. Коломиец ночами часто будил своего сокамерника «и, указывая пальцем на левую сторону лба и затылок, жаловался, что он чувствует в этом месте боль, он даже чувствовал, где должна пройти пуля при расстреле».
Деформация личности палачей приводила к неудержимой потребности хвалиться участием в казнях. О собственном садизме отставные чекисты могли вспоминать как о законном революционном пыле, требуя уважения к былым заслугам. Скромный сотрудник Омского горстройтреста Андрушкевич в 1929-м получил строгий партвыговор с предупреждением за «невыдержанность» в связи с тем, что во время чистки заявил: «Когда я работал в ГПУ, привели ко мне белого полковника, так я ему зубами прогрыз горло и сосал из него кровь». Недаром в сентябре 1922 г. появился приказ ГПУ, который отмечал, что в своих официальных заявлениях в различные инстанции, а также в частных разговорах многие бывшие и настоящие сотрудники ГПУ указывают на своё участие в тех или иных агентурных разработках, а также в исполнении приговоров, «что расшифровывает методы нашей работы».
Все чекисты обязывались дать подписку о сохранении в тайне сведений о работе ГПУ и могли разглашать только название своей штатной должности; нарушителей предписывалось «немедленно арестовывать и предавать суду». Но эта мера работала не очень эффективно — чекисты любили похвастать своей работой и в общении между собой, и в разнообразных ходатайствах либо доносах.
Например, заведующий снабжением механико-монтажного цеха Кузнецкого металлургического комбината 27-летний А.Н. Таран в июне 1933-го обвинялся Сталинской горКК ВКП (б) в том, что «клеветал на советскую власть и Красную Армию, заявляя, что, будучи работником ОГПУ на Украине, он, Таран, расстреливал десятки белых, а 5-й Латышский батальон расстреливал по 500 человек..» Работавший в Омске и Томске арестованный в 1938-м особист П.А. Егоров, доказывая свою лояльность, в письме из лагеря Сталину заверял вождя, что всегда был «беспощаден к врагам народа, и не только агентурным и следственным путём боролся с ними, но много, много сам физически уничтожал их». Другой арестованный чекист — оперативник контрразведывательного отдела УНКВД по Алтайскому краю И.И. Виер-Ульянов — уверял судей трибунала: «Я сам боролся с врагами народа, не одну сотню я арестовал и расстрелял этих врагов».[32]
Рядовой чекист С.М. Замарацкий в 1937-м упоминал о регулярных «свадьбах» в Кузнецком домзаке в конце 1920-х гг. (этот термин употреблялся и чекистами Белоруссии 1930-х, что говорит о его универсальности). В середине 20-х годов, когда численность работников карательного ведомства была наименьшей и когда на иной второстепенный сибирский округ приходилось в год всего несколько арестованных по политическим делам, порядки в тюрьмах были очень жестокими и бессудные расправы в них случались нередко. Крайней жестокостью к заключённым отличались начальник Щегловского (Кемеровского) домзака Ф.А. Брокар, начальник Минусинской тюрьмы Г. Керин. Начальник Тобольского исправтруддома И.С. Гомжин в 1926 г. оказался под судом за самовольный расстрел заключённых, но был осуждён условно и благополучно продолжил карьеру в тюремном ведомстве. Менялись начальники тюрем очень часто, поскольку самые разные злоупотребления в их среде носили повальный характер. [33]
«Произведено способом гражданской войны»
В Сибири, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе в середине 1920-х гг. получил большое распространение уголовный бандитизм, с которым шла настоящая война. Чекистские начальники средств не выбирали. Начальник Забайкальского губотдела полпредства ОГПУ по ДВК В.С. Корженко в сентябре 1925 г. был отозван в Москву и отдан под суд за внесудебные расстрелы участников уголовных банд. Сильно наказывать его не стали — некоторое время спустя Корженко был возвращён на руководящую работу в ОГПУ.
Постановлением ВЦИК Сибирский край объявлялся неблагополучным по бандитизму в ноябре 1925 — январе 1926 г. и с 1 декабря 1926 по 1 марта 1927 г. Это означало, что власти края получали исключительные полномочия. Создавалась специальная двойка, состоявшая из особоуполномоченного полпредства ОГПУ по Сибкраю и крайпрокурора (либо его заместителя), которая заочно рассматривала дела на уголовников и большую их часть приговаривала к расстрелу. В первую кампанию было расстреляно около 500 чел., а с 17 декабря 1926 по 1 февраля 1927 г. чрезвычайная двойка на семи заседаниях рассмотрела 112 дел на 517 человек и большую часть осуждённых — 321 чел. — приговорила к расстрелу.[34] Массовые расстрелы уголовников вскоре «всплыли» в буквальном смысле, став достоянием гласности.
Органы ОГПУ оказались не готовы к захоронению большого количества трупов и проявили сомнительную самодеятельность. Расстреливая бандитов в конце 1925 г., чекисты Бийского окротдела ОГПУ из-за сильных морозов последнюю группу расстрелянных решили не хоронить, а обезглавили 8 трупов, после чего головы зарыли, а тела сбросили в р. Бия. Весной обезглавленные трупы всплыли, вызвав в округе самые невероятные слухи. Специальная комиссия полпредства ОГПУ наказала исполнителей административным арестом, но это ничуть не повлияло на методы «захоронения», практиковавшиеся год спустя, во вторую кампанию массовых казней уголовного элемента.
В июне 1927 г. пять сильно разложившихся трупов мужчин со связанными телефонным кабелем руками и пулевыми ранениями в голову либо сердце были выловлены из Оби в окрестностях Новосибирска, ещё один — в окрестностях с. Молчаново Томского округа. Новосибирский окружной угрозыск, логично предположив, что милиция обнаружила «трупы расстрелянных органами ОГПУ на основании предоставленных им прав в отношении известной категории преступников», просил прокуратуру поднять вопрос о том, чтобы чекисты впредь зарывали казнённых в землю. Однако заместитель полпреда ОГПУ по Сибкраю Б.А. Бак 2 сентября 1927 г. направил Сибпрокуратуре циничную отписку: поскольку трупы уже захоронены как неопознанные и следствие провести невозможно, то неясно, кто расстреливал: ОГПУ или судебные органы… Хотя сам вид обнаруженных трупов довольно ясно указывал на почерк исполнителей.[35]
Впрочем, не только чекисты ленились предавать трупы расстрелянных земле. Комендатура краевого суда также была не прочь схалтурить. 15 марта 1928 г. новосибирский окружной прокурор А.И. Гулевич сообщала председателю окрсуда Ф.А. Сове-Степняку, что исполнение приговора суда над С.Т. Нероновым было комендантом крайсуда Мерсяповым в полночь 5 марта «произведено способом гражданской войны», и просила, «чтобы дело приведения в исполнение смертных приговоров было бы налажено в надлежащем порядке (избрание заранее определённого места, вырытие ямы, крепкая утрамбовка и проч.)». Неделю спустя Гулевич в новом послании по тому же адресу раскрывала некоторые подробности инцидента: «Я как прокурор, только что прибывшая на работу в округ, была совершенно неосведомлена. и была поставлена перед фактом: не было готовой ямы, заступа, была одна только пешня, что устранить не представилось возможным». Надо полагать, что в мёрзлой земле в темноте была наскоро выдолблена яма, в которой с трудом спрятали тело расстрелянного, либо труп вообще не хоронили, а сбросили в реку.[36]
Практика небрежного отношения к процедуре захоронения характерна для всех двадцатых годов, поскольку надлежащее исполнение инструкций требовало конвойной команды, заблаговременного рытья могилы где-то в глуши, что было зимой не так просто. Поэтому в Новосибирске и в 1923-м, и во второй половине 20-х годов практиковалось сбрасывание трупов расстрелянных в Обь. Зимой осуждённых, не мудрствуя лукаво, казнили прямо в общественной теплушке для полоскания белья посреди Оби, после чего труп спускали в прорубь. Делалось это ночью, когда полоскать бельё в проруби никому из обывателей не пришло бы в голову. Потом в избушке прибирали — до следующего раза.
Вот акт от 4 марта 1926 г. о расстреле двух уголовников, подписанный комендантом крайсуда Мерсяповым и членом крайсуда Соколовым, которые отметили (орфография сохранена — А.Т.), что «расстрел ученён вполне правельно и без каких бы то не было форм мучения, а именно: Булгакову сделано 3 выстрела из нагана в затылок и Констанову один. Труппы обеих спущены в прорубь реки Оби в теплушке для полоскания белья, где и приводился самый приговор в исполнение; от приведения приговора в исполнение признаков и следов в. теплушке не осталось».
Обыденность такой практики подтверждал член Сибкрайсуда А.З. Суслов в информации о том, что труп расстрелянного 14 декабря 1926 г. в Новосибирске Ивана Голендухина «спущен под лёд реки Оби».[37] В Новосибирске в течение двадцатых и тридцатых годов местом тайных казней также была Берёзовая роща на окраине, где располагалось большое кладбище. Ещё в 1934 г. его возможности для захоронения казнённых не были исчерпаны. Десятки тысяч расстрелянных в столице Сибири в 1937 — 1938 гг. вероятно нашли могилу в нескольких местах. Они секретны до сих пор. В других крупных городах такие массовые захоронения обнаружены: Бутово и Коммунарка в окрестностях Москвы, Левашовская пустошь под Петербургом, Быковня под Киевом, Куропаты под Минском…
Таким образом, в течение 1920-х годов процедура исполнения смертных приговоров обрела свои постоянные черты: секретность исполнения и захоронения, определённая вольность в трактовке инструкций (сбрасывание трупов в реки, частое игнорирование прокурорского и врачебного надзора). После массовых казней начала двадцатых наблюдался сравнительно мягкий период, прерванный сотнями расстрелов в ряде регионов во время кампании борьбы с бандитизмом. Обычно была возможность апелляции на приговор, со стороны московских властей наблюдались частые случаи отмены смертной казни и помилований.
«Окольным путём. в расход не должны пускаться»
Конец двадцатых — начало тридцатых годов был ознаменован созданием внесудебных троек при полпредствах ОГПУ в регионах, расстрелявших в период до 1934 г. десятки тысяч людей. Огромный приток раскулаченных крестьян в Сибирь позволил в ряде случаев предельно радикально решить вопрос с тем, куда девать часть «кулаков». Слухи о том, что несколько барж с ссыльными были просто где-то затоплены, имеют под собой основу (основательность их подтверждается и в новейшей монографии С.А. Красильникова «Серп и Молох»). В октябре 1943 г. начальник Александровского райотдела Нарымского окротдела НКВД И.В. Тарсуков (занимавший в начале 30-х рядовые должности в Бердском и Новосибирском райотделах ОГПУ), по сообщению секретаря тамошнего райкома ВКП (б) Кузьмина, во время плавания на пароходе из Новосибирска в Нарым почти сутки пьянствовал, избивал жену, дрался и кричал по адресу пассажиров-«трудпоселенцев»: «Я их баржами топил!»[38]
Массовые казни начались сразу после атаки на крестьянство. Уже в начале 1930 г. расстрельный конвейер работал на полных оборотах — комендатура полпредства ОГПУ Сибкрая приступила к физическому истреблению осуждённых тройкой «кулаков». Предписания на расстрел подписывал непосредственно полпред. В число палачей обычно включали рядовых оперработников. За раз команда из трёх исполнителей расстреливала до 20 — 25 человек. 59 крестьян-«повстанцев» Коченёвского района в марте 1930 г. в три приёма расстреливал дежурный комендант полпредства ОГПУ Михаил Рачков, ему ассистировали начальник отделения учётно-осведомительного отдела Александр Данченко, оперработники секретного и транспортного отделов. Всего за 1930 г. сибирские чекисты расстреляли около 5 тыс. осуждённых тройкой.[39]
Подобные массовые расстрелы производились и в других регионах страны. Старший уполномоченный экономотделения Сальского окротдела ОГПУ Павел Финаков докладывал 26 января 1930 г. своему начальству об инциденте, связанном с обнаружением жителями станицы Пролетарской (ныне г. Пролетарск Ростовской области) захоронений расстрелянных. Получив в январе постановление тройки о расстреле 24 человек, Финаков выехал в Пролетарскую в сопровождении двух уполномоченных, отыскал в окрестностях балку и, углубив старые воронки, подготовил три могилы. Объявление о приговоре было сделано осуждённым в помещении местного райадмотдела в присутствии его начальника, а также председателя райисполкома и одного из коммунаров. В казни, помимо чекистов, участвовал и секретарь райкома партии.
Финаков упоминал, что другой чекист по фамилии Евтушенко там же расстреливал в заброшенных колодцах. Замаскировать как следует свою работу палачи не удосужились. Обнаружив у одного из колодцев подозрительные свежие ямы, колхозники их разрыли и нашли трупы в синих рубашках с руками, «связанными тонким шпагатом». Они писали в прокуратуру: «Мы, красные партизаны, требуем немедленного расследования. Мы знаем существующие законы Советской Власти, что окольным путём, кто бы они не были в расход не должны пускаться». Колхозники сильно идеализировали законы советской власти..[40]
Практика замены штатных палачей рядовыми оперативниками и руководителями местных отделений ОГПУ-НКВД характерна для всех 30-х годов: многие участники огромных сибирских «повстанческих организаций» в 1933 г. были казнены оперативниками, при этом чекистская специализация не играла роли — расстреливали особисты, работники КРО, СПО, ЭКО, транспортники. Часто к ликвидациям привлекались и милиционеры всех уровней — от начальника горотдела до помощника уполномоченного угрозыска. В 1933 и 1935 гг. фиксируются случаи участия в казнях фельдъегерей райотделов ОГПУ-НКВД — и это только по осуждённым в «законном» порядке Запсибкрайсудом, среди которых преобладали уголовные преступники! Ясно, что политзаключённых, которых часто расстреливали большими группами, тем более «обслуживали» не только комендантские работники.
Молодые чекисты набора рубежа двадцатых-тридцатых годов, знавшие о порядках периода гражданской войны понаслышке, тем не менее очень легко и истязали, и отправляли на тот свет «классовых врагов». Так, в Барабинском окротделе в 1930-м начинающие оперативники А.Г. Луньков и К.К. Пастаногов назначались в наряды по приведению в исполнение многочисленных приговоров над «кулаками»; Луньков семь лет спустя, став видным оперработником, постоянно участвовал в расстрелах в бывшем Каинске, переименованном в Куйбышев. В декабре 1933 г. чекист-практикант Ленинск-Кузнецкого горрайотдела ОГПУ Николай Шеин (десять лет спустя дослужившийся до начальника Кемеровского сельского РО НКВД) минимум дважды входил в расстрельную группу горотдела, казнившую за эти два «захода» шестерых осуждённых.
Случалось, что иногда молодого чекиста брали на «смотрины» — так, уполномоченный Топчихинского райотдела УНКВД Запсибкрая А.С. Кюрс 19 октября 1934 г. присутствовал при казни осуждённого начальником РО НКВД М.П. Бирюковым — своим непосредственным руководителем, причём в акте о расстреле особо оговаривалось, что имярек только «присутствовал». Возможно, его использовали и в качестве охранника. Точно так же тренировали и фельдъегерей: так, И.К. Шахминкин — начальник пункта связи Гурьевского райотдела УНКВД по ЗСК — 8 июля 1935 г. «присутствовал» при расстреле осуждённого.[41]
Известные сведения о политических казнях по Западной Сибири, кстати, позволяют доказательно опровергнуть официальную цифру расстрелянных в 1933-м по всему СССР, обнародованную ещё в начале 90-х годов — 2.157 человек. Она абсолютно недостоверна — как оттого, что в неё не включили уничтоженных тройками ОГПУ по Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальне-Восточному краям, так и в связи с занижением цифр казнённых по отдельным полномочным представительствам. Так, только по двум главнейшим политическим делам, сфабрикованным в 1933 г. ОГПУ Запсибкрая, было расстреляно народу немногим менее, нежели даёт основательно уже вошедшая в научный оборот цифра в 2.157 человек: по «белогвардейскому» заговору арестовано около 1.800 человек, в том числе несколько сот человек расстреляно, а по «заговору в сельском хозяйстве» осуждено 2.092 человек, в том числе казнено 976. А ведь были в Западной Сибири в 1933 г. и другие расстрельные дела, пусть и далеко не такие масштабные. Также следует учесть, что новейшие исследования учитывают 464 расстрелянных в Ленинградской области, а официальный чекистский отчёт за 1933-й — только 313.[42]
Комендатуры на хозрасчёте
Местные палаческие расходы оплачивались из краевого центра. Так, 5 мая 1931 г. нарсудья Барнаула обращался в крайсуд: «Мною за погребение уплочено 25 рублей, которые и прошу выслать». Лиц, осуждённых краевым судом, полагалось расстреливать комендатуре крайсуда. В 20-е годы так и было, хотя, например, в Центрально-Чернозёмной области в конце 1920-х расстрелами лиц, осуждённых окружными судами, ведали сотрудники ОГПУ. А в 1930-х гг. большую часть осуждённых казнили именно работники комендатур при полпредствах ОГПУ и оперсекторах, а также чекисты-оперативники и милиционеры. В расстрельной практике наличествовали элементы хозрасчёта. Ведомственные финансовые интересы охранялись строго — чекисты берегли копейку и за свои услуги не забывали спросить с судейских коллег.
Например, в июне 1934 г. Омский оперсектор ОГПУ получил от Запсибкрайсуда (через старшего нарсудью Омска) 50 рублей на возмещение расходов по расстрелу трёх человек, которых казнили три работника комендатуры оперсектора. Таким образом, процедура стоила чекистам недорого — менее 17 рублей за одного расстрелянного. Нацисты, как известно, с родственников осуждённых брали деньги за процедуру казни и кремации. Советское государство ограничивалось вычетом за услуги адвокатов. Так, в октябре 1932 г. по приговору Запсибкрайсуда был расстрелян 22-летний Н.В. Пренев, скосивший гектар пшеницы и овса, а также похитивший урожай с 30 соток картофеля. На основании циркуляра Наркомюста № 200 с него предварительно было взыскано в пользу защитника 50 рублей.[43]
У чекистов по сравнению с судами был приоритет: так, когда приговорённый Коллегией ОГПУ в декабре 1932 г. к высшей мере В.С. Фалалеев бежал, то после поимки в 1933-м его осудил уже Запсибкрайсуд. После этого беглеца передали в полпредство ОГПУ для исполнения первого приговора. Но наблюдалась и кооперация: так, 14 октября 1934 г. председатель Запсибкрайсуда В.А. Бранецкий-Эртманович предписал «своему» коменданту И.В. Балдину и чекисту — начальнику новосибирского изолятора — на следующий день привести в исполнение приговор над Т.А. Захаровым. В результате появился следующий документ:
«Акт.
В 21 час 35 минут 15 октября 1934 года в моём присутствии приведён в исполнение приговор над осуждённым к расстрелу по ст. 5814 УК кулаком Захаровым Тимофеем Андреевичем вблизи от завода горного оборудования в берёзовой роще. Труп Захарова предан земле.
Член Президиума Крайсуда Глушков
15 октября 1934 года подпись
21 час 40 минут. гор. Новосибирск».
Акты составляли нередко на случайных листках, используя макулатуру. Так, запись о расстреле 28 сентября 1933 г. в Омске составлена на чистой стороне какой-то ведомости, где зафиксированы расходы за май 1926 г. на содержание лабораторных животных: 285 морских свинок, 5 кроликов, 35 мышей и одного барана..[44]
«Вопросы техники» великого террора
Середина 1930-х гг. дала кратковременное снижение числа казней, но на 1937 — 1938 гг. пришёлся апогей тщательно организованного коммунистического террора, когда было расстреляно почти 682.000 человек. Подготовке быстрого и секретного исполнения массовых расстрелов с помощью троек было уделено должное внимание. Во всех регионах создавались специальные полигоны для стремительного расстрела и захоронения огромного количества «врагов народа». Где-то природные условия «помогали» в этой задаче. Известно, что в Приморье трупы вывозили подальше от берега и сбрасывали в океан. Есть свидетельства исполнителей приговоров, которые говорят о том, что осуждённых сбрасывали в Охотское море за борт живыми, связав и привязав к ногам груз — в полном соответствии с практикой гражданской войны.
Начальник управления НКВД по Запсибкраю С.Н. Миронов-Король неоднократно разъяснял подчинённым вопросы, касавшиеся исполнения приговоров. Летом 1937 г., защищая одного из ведущих следователей секретно-политического отдела УНКВД К.К. Пастаногова от обвинений в том, что последний в 1930 г. уклонился от расстрела своего родственника, он внушал оперативникам: «Приводить в исполнение приговор может не всякий чекист, просто иногда по состоянию здоровья. На его дядю первые материалы о контрреволюционной деятельности поступили от т. Пастаногова. И если бы даже Пастаногов заявил, что ему неудобно идти расстреливать дядю, здесь, мне кажется, не было бы нарушения партийной этики».
Практически в те же дни Миронов на совещании с начальниками оперативных секторов УНКВД 25 июля 1937 г. (то есть в день своей установочной речи перед всеми оперативниками управления, в которой были определены задачи рядовому и начальствующему составу в связи с начинающимися «массовыми операциями») дал приближённым конкретные установки относительно процедур, связанных с грядущими экзекуциями. Опираясь на ежовское указание в знаменитом приказе № 447 о необходимости полной конспирации массовых расстрелов, он заявил, что выполнение намеченных операций вызовет определённые «технические» проблемы:
«Стоит несколько вопросов техники. Если взять Томский оперсектор и ряд других секторов, то по каждому из них в среднем, примерно, надо будет привести в исполнение приговора на 1000 человек, а по некоторым — до 2000 чел. Чем должен быть занят начальник оперсектора, когда он приедет на место? Найти место, где будут приводиться приговора в исполнение, и место, где закапывать трупы. Если это будет в лесу, нужно, чтобы заранее был срезан дёрн и потом этим дёрном покрыть это место, с тем, чтобы всячески конспирировать место, где приведён приговор в исполнение — потому что все эти места могут стать для контриков, для церковников местом (проявления) религиозного фанатизма. Аппарат никоим образом не должен знать ни место приведения приговоров, ни количество, над которым приведены приговора в исполнение, ничего не должен знать абсолютно — потому что наш собственный аппарат может стать распространителем этих сведений..»
Эти цифры говорят о том, что Миронов изначально планировал расстрелять больше объявленного для УНКВД Запсибкрая лимита в 5.000 человек, ибо оперсекторов, по каждому из которых надлежало уничтожить 1000 — 2000 чел., было много: Новосибирский, Кемеровский, Сталинский, Куйбышевский, Барнаульский, Бийский, Каменский, Ойротский, Рубцовский, Славгородский, Томский, Черепановский, Нарымский. Из служебной записки мироновского помощника И.А. Мальцева видно, что первоначально данный Москвой лимит на расстрел планировался на 10.800 человек, а затем был временно урезан. Несмотря на конспирацию, многие чекисты среднего уровня были осведомлены о масштабах террора. Так, документ, найденный в сейфе начальника отдела контрразведки его помощником В.Д. Качуровским, говорил о совершенно ином порядке подлежавших уничтожению — в стенограмме одного из оперативных совещаний руководства УНКВД по Новосибирской области, проведённого после начала массовых операций, речь шла о десятках тысяч будущих жертв.
Это говорит о том, что чекисты, получив первые лимиты из Москвы, быстро поняли, что предстоит уничтожить всех потенциально опасных из «бывших» и их «связей» — и практически во всех регионах страны начали соревнование, стремясь арестовать и расстрелять как можно больше. Начальник УНКВД по Новосибирской области Григорий Горбач, доложив на совещании у Ежова в начале 1938-го об аресте 55 тысяч человек, тут же получил благодарность от «железного наркома». Преемник Горбача Иван Мальцев высмеивал начальника УНКВД по Алтайскому краю Серафима Попова за то, что алтайские чекисты не могли похвастаться такими цифрами арестованных и осуждённых «врагов», какие были на счету новосибирцев.[45]
«Расстрельная нагрузка» на местные небольшие тюрьмы при провинциальных оперсекторах НКВД в этот период была небывалой. В Славгородской тюрьме 1 декабря 1937 г. расстреляно 114 человек, 2 декабря — 33 человека, 3 декабря — 74 человека, а 22 января 1938 г. — 298 человек (в том числе 288 немцев). Собственно аппарат Славгородского райотдела НКВД был невелик — несколько оперативников и персонал тюрьмы. Поэтому активно привлекали милицию и фельдъегерей. Такие же масштабы казней характерны и для других небольших городов вроде Тобольска (где 14 октября 1937 г. расстреляли 217 человек). Часто расстрелянных зарывали на территории самой тюрьмы: такие факты известны для Колпашева и Тобольска, Салехарда и Канска, Барнаула и Бийска.
Если взять совсем маленький Салехард, бывший центром едва заселённого Ямало-Ненецкого округа, то из жителей округа в 1937—1938 гг. расстреляли 379 человек, но большей частью в Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске и Тобольске. В самом Салехарде казни начались 5 ноября 1937-го, когда было убито 20 человек; 9 декабря казнили девятерых. В 1938-м: 13 января — расстреляны двое, 17 января — один, 19 января — 45, 5 апреля — 58, 12 июля — 9. Таким образом, несмотря на вечную мерзлоту, салехардские чекисты и милиционеры расстреляли и зарыли на территории тюрьмы оперсектора почти 150 жертв.
Оперуполномоченный при тюрьме в Тюмени В.А. Скардин расстрелял с лета 1937 по март 1938 г. четыреста человек — примерно половину всех смертников. Остальные достались коменданту и оперсоставу горотдела. Как вспоминал периодически исполнявший обязанности начальника Тюменского горотдела НКВД Д.С. Ляпцев, оперативные работники в массе своей не горели желанием исполнять приговоры, обычно стараясь исчезнуть, так что их приходилось в приказном порядке отряжать на помощь коменданту.[46]
В Минусинске, Абакане, Тюмени весь наличный оперсостав, включая милицию и фельдъегерей, привлекался в 37-м к расстрелам. Как вспоминал бывший начальник Новосибирской облмилиции М.П. Шрейдер, работники милиции в начале 1938-го постоянно участвовали в расстрелах в Новосибирске. Такая же ситуация была и в большинстве городов, где имелись тюрьмы и «условия» для казней. Слишком много надо было расстрелять, и имевшиеся кадры не справлялись, в буквальном смысле захлёбываясь в крови.
Начальник УНКВД по Куйбышевской области 4 августа 1937 г. запретил допускать к расстрелам красноармейцев и рядовой милицейский состав. Но во многих других регионах эти лица привлекались к «ликвидациям». Подчас даже всего состава местного органа НКВД было недостаточно — и партийные органы шли навстречу, привлекая к казням собственные кадры. О конспирации уже и не помышляли. 22 апреля 1938 г. начальник следственной тюрьмы управления госбезопасности УНКВД по Омской области М.Г. Конычев и начальник Тобольского окротдела НКВД А.М. Петров подписали «Акт обследования работы Тобольского окротдела НКВД по приведению приговоров к ВМН», где, в частности, предписывалось: «Прекратить приглашать для приведения приговоров товарищей из партактива и не осведомлять об этой работе лиц — не сотрудников НКВД».[47]
Частым явлением были расстрелы по ошибке совершенно посторонних лиц. Чекист Василий Кожев показывал: «Когда я был арестован и находился в тюрьме г. Читы, то работал старостой корпуса смертников. С приведением приговоров в исполнение творилось вопиющее безобразие. Смертники называли другие фамилии тех, которые подлежали расстрелу, вместо них брали тех других, названных лиц, и расстреливали. Комендант УНКВД Воробьёв заявлял: „Стреляйте, после счёт сведём, лишь бы количество черепков было“. А таких случаев неправильных расстрелов было много. Начальник 8 (учётно-архивного — А.Т.) отдела УНКВД Боев также присутствовал и когда начал проверять, то тех лиц, которые должны быть живыми, не оказалось. И он шутя говорил: „Наверное, Крысова расстреляли за Иванова как крысу“, добавляя, что, мол, ошибку исправим. Во время проверки в 8-й камере таким образом было расстреляно 6 человек. Я писал об этом прокурору, он меня вызывал и допрашивал (это был военпрокурор Агалаков), но до конца выслушивать не стал, а сказал мне, что об этом скажете на суде..»
Путаница с однофамильцами и теми заключёнными, которые выдавали себя за других, была повсеместной и постоянной. Началась она куда раньше 1937-го. В феврале 1926 г. прокурор Сибкрая П.Г. Алимов предлагал прокуратуре Ачинского округа выяснить причину того, отчего вместо осуждённого Ивонина был расстрелян Акманов (Ивонина чуть позже тоже расстреляли) и доложить, был ли причиной этого случая сговор заключённых или «невнимательность должностных лиц». М.Р. Аришак, возглавлявший райаппарат ОГПУ Александровского района Нарымского округа, 4 ноября 1933 г. был арестован и отдан под суд за преступную халатность, способствовавшую массовой гибели спецпереселенцев на о. Назино. Последняя из его вин формулировалась так: «без всякой проверки обвиняемого из деклассированных Лебедева, приговорённого к 10 годам концлагеря, подверг высшей мере наказания — расстрелу, перепутав имена и отчества обвиняемых».
В 1937 или 1938 гг. глава Бийского оперсектора НКВД В.И. Смольников «вместо приговорённых к расстрелу Тарабукина и Соколова допустил самоуправно расстрел других лиц, однофамильцев». Василий Зайцев — оперуполномоченный, а затем и начальник Канского райотдела УНКВД по Красноярскому краю — весной 1941-го был осуждён на 10 лет лагерей за целый букет нарушений законности, включая ошибочный расстрел двух заключённых.[48]
Каинские душегубы и читинские «чистильщики»
Как вспоминал бывший политзек И.И. Чукомин, сидевший осенью 1937-го в барабинской тюрьме (она располагалась в г. Куйбышеве Новосибирской области и являлась одним из основных «предприятий» небольшого города), «каждый вечер из нашей камеры вызывали по 5−7 человек и уводили в городской (отдел) НКВД. Там раздевали их возле сарая и голых заводили в баню, а дальше их след терялся».
Многие из казнённых в Куйбышеве расстались с жизнью прямо в здании райотдела НКВД. Бывший начальник Куйбышевского оперсектора УНКВД по Новосибирской области Л.И. Лихачевский в августе 1940 г. показывал (будучи арестован в ноябре 1939-го за нарушения законности): «Осуждено к ВМН за 1937 — 1938 годы (по Куйбышевскому оперсектору) было ок. 2-х тысяч чел. У нас применялось два вида исполнения приговоров — расстрел и удушение. Сжиганием не занимались. Сжигали только трупы. Всего удушили примерно 600 чел. Постоянными участниками этих операций были Плотников, Малышев, Иванов, Урзля, Вардугин и др. работники как НКВД, так и милиции. Операции проводились таким путём: в одной комнате группа в 5 чел. связывала осуждённого, а затем заводили в др. комнату, где верёвкой душили. Всего уходило на каждого человека по одной минуте, не больше».
Лихачевский также добавил: «При исполнении приговоров в первой комнате сидел я и проверял личность осуждённого, затем после меня (его) заводили в другую комнату, где связывали, а затем оттуда выводили в третью комнату, где и расстреливали». По каким-то причинам одно время «в условиях Куйбышевского района» расстреливать было нельзя, «и я отдал распоряжение согласно указанию нач. Управления применять удушение. Всего было задушено человек 500 — 600».
Некоторые из палачей соревновались в умении убить осуждённого с одного удара ногой в пах. Казнимым забивали рот кляпом, причём у С. Иванова был специальный рожок, которым он раздирал рты, выворачивая зубы сопротивляющимся. Этот садист расхаживал во время «ликвидаций» в белом халате, за что его коллеги прозвали Иванова «врачом». Тройка каинских палачей трибуналом войск НКВД Западносибирского округа 27 — 29 августа 1940 г. была осуждёна к высшей мере. Никто из них в последнем слове не выразил сочувствия к своим жертвам — говорили только о собственной невиновности и расстройстве здоровья от усиленной работы по исполнению. После утверждения приговора в Москве военной коллегией Верховного Суда и отклонения прошения о помилования Президиумом Верховного Совета Лихачевского, Малышева и Иванова расстреляли в последний день октября 1940 г.
Некоторые из казнённых в 1938-м в Куйбышеве не были погребены, а вывезены в укромные места и брошены, так что в следующем году один подросток сообщил в милицию о трупе, обнаруженном им за городом. Приехавшие туда милиционеры опознали в покойнике одного из задушенных и закопали его, отметив, что у трупа «зубы были разбиты, во рту находилась тряпка». Отметим, что с цифрами казнённых в Куйбышеве (бывшем Каинске) близко совпадает число уничтоженных людей в одном из оперсекторов Омской области: 1.787 человек, расстрелянных в 1937 — 1938 гг. по делам Ишимского оперсектора НКВД.[49]
Бывший начальник новосибирской облмилиции М.П. Шрейдер вспоминал о массовых расстрелах в тюремной бане в Новосибирске. О какой-то известной чекистам жуткой подробности свидетельствуют предсмертные слова бывшего оперработника УНКВД по Новосибирской области Садовского, сохранённые сокамерником: «Меня везут к корыту стрелять..» Со слов начальника отделения дорожно-транспортного отдела УНКВД С. И. Политова, зафиксированных его 14-летней племянницей, осенью 1937-го под Новосибирском были оборудованы в труднодоступном месте некие расстрельные помещения: «НКВД расстреливает людей на одном озере или болоте, где построены специальные камеры, стена, к которой ставят расстреливать, и на полу вода..»[50] Впрочем, и настоящая баня была удобным для палачей местом: голые заключённые не могли пронести с собой ни оружия, ни каких-либо предметов, могущих за него сойти, чувствовали себя скованно и не оказывали сопротивления палачам. Сопротивления не было из-за невозможности осознать, что всех арестовали именно для того, чтобы сначала издеваться, а потом хладнокровно убить — это не умещалось в сознании. А смыть кровь в банном помещении было не сложно.
Тем не менее, отдельные попытки смертников сопротивляться палачам имели место. Одна из них фиксируется в Чите, о чём есть свидетельство упоминавшегося выше чекиста В. Кожева. Он рассказал, как 9 января 1939 г. сорок смертников, находившихся в камере № 6, «отказались выйти на расстрел, кричали, что они не виноваты и требовали прокурора, подняли бунт». Прибежал один из чекистов и отрекомендовался прокурором, но его узнали. Тогда начальник управления (им был П.Т. Куприн — А.Т.) «приказал расстрелять этих арестованных в камере. Было выпущено более 300 патронов в эту камеру (автоматов тогда не было, поэтому такое количество израсходованных боеприпасов говорит о массовости участников побоища — А.Т.). Таким образом, приговор привели в исполнение. За ночь очистили камеру, затёрли стены, побелили. Об этом случае хорошо знают работники тюрьмы».[51]
Расстрелянный дважды
Дело колхозника колхоза «Труженик» Ново-Борчатского сельсовета Крапивинского района современной Кемеровской области Григория Чазова — одно из тех, что проливает свет на технологию расправ периода ежовщины и беспредельный цинизм властей, в том числе тех, кто обязывался надзирать за соблюдением законности. Чазова арестовали 5 декабря 1937-го, 19 февраля следующего года он был допрошен фельдъегерем Крапивинского райотдела НКВД Н. Молевым. Протокол подписал не читая. Шесть дней спустя был переведён в Кемеровскую тюрьму, а 20 марта 1938 — в отделение Кемеровской тюрьмы в с. Ягуново, где содержалось 312 человек, в том числе и его 63-летний отец — Николай Чазов. 22 марта около девяти вечера всем заключённым было приказано немедленно собраться для отправки на этап. Их по одному выводили из камеры и направляли за дом, где уже была приготовлена братская могила.
Григория Чазова комендант тюрьмы сзади ударил по голове, «а двое неизвестных, насунув ему шапку на глаза, повели за дом и сильным толчком бросили его в глубокую яму. Упав в яму, Чазов почувствовал под собой тела стонущих людей. По этим людям неизвестные ему лица ходили и стреляли в них. Чазов, лёжа между трупами, не шевелился и таким образом остался жив. А когда расстреливавшие люди уехали, оставив яму незакопанной, — вылез и пошёл домой в колхоз, находившийся за 45 километров от места происшествия».
Вместе с братом Фёдором Чазов 4 апреля того же года приехал в Москву и из приёмной Михаила Калинина они оба были направлены в Прокуратуру СССР. На следующий день дежурный прокурор ГВП военюрист 1-го ранга Качанов их допросил и затем сделал доклад начальнице 2-го отдела ГВП Софье Ульяновой. С санкции Г. Розовского оба (Фёдор — как укрыватель беглеца) были арестованы. А Рогинский тут же написал первому заместителю наркома внутренних дел Фриновскому относительно проверки дела и привлечения к ответственности лиц, «небрежно выполнивших приговор о расстреле». 20 июня 1938 г. Григорий Чазов был расстрелян в Москве, а его брат Фёдор 29 июля по докладу Рогинского осуждён как социально-вредный элемент на 5 лет заключения и отправлен на Колыму.
Дело № 33 160 на 17 человек (все осуждены к расстрелу) было сфабриковано с образцовой грубостью и цинизмом: обвинительное заключение составлено 19 января 1938 г., а допросы проведены задним числом — с 16 по 19 февраля. Чазова обвиняли в поджоге Тайгинского пихтового завода, отравлении стрихнином трёх колхозных лошадей, поджоге тока с соломой и антисоветских разговорах. Ни документов, ни свидетельских показаний в деле не отыскалось. В 1939-м Прокуратура СССР внесла протест на решение по делу о расстреле Чазова, абсолютно не озаботившись проведением расследования в отношении 16 его подельников. 26 ноября 1939 г. Прокурор СССР М.С. Панкратьев сообщал секретарю ЦК ВКП (б) А.А. Андрееву об этом случае и о том, что дело на С. Ульянову передано для расследования.[52]
Случаи с обнаружением могил и побегами из-под расстрела сильно компрометировали чекистское начальство. Из НКВД СССР в Новосибирск отправилось требование выяснить обстоятельства «небрежного» расстрела, тем более что случаи открытия тайны казней были в Новосибирской области не единичны. Бывший начальник тамошнего УНКВД Горбач на следствии в конце 1938 г. показал, что в результате его «вредительской работы» в г. Ленинске-Кузнецком массовые операции по арестам кулацкого элемента задели также середняков «и, кроме того, там приговора в исполнение были приведены в таком месте и так, что на второй день какой-то человек натолкнулся на место, где был обнаружен труп». Указал Горбач и на промашку с Чазовым: в Кемеровском горотделе НКВД, согласно его показаниям, один из осуждённых к ВМН «фактически не был расстрелян, после операции ушёл и явился в Москве, кажется, в приёмную М.И. Калинина».[53]
«Я приходил с операции, обмазанный кровью..»
Подробные сведения об уничтожении почти тысячи жителей Бодайбинского района оставил замначальника отдела контрразведки УНКВД по Иркутской области Борис Кульвец (всего этот чекист арестовал в 1937—1938 гг. около четырёх тысяч человек). В начале 1938-го он прибыл в Бодайбо и принялся осуществлять «массовые операции», из-за отдалённости района начавшиеся почти через полгода после соответствующих приказов.
Кульвец информировал иркутское управление НКВД: «Только сегодня, 10 марта, получил решение (тройки — А.Т.) на 157 человек. Вырыли 4 ямы. Пришлось производить взрывные работы, из-за вечной мерзлоты. Для предстоящей операции выделил 6 человек. Буду приводить исполнение приговоров сам. Доверять никому не буду и нельзя. Ввиду бездорожья можно возить на маленьких 3−4-местных санях. Выбрал 6 саней. Сами будем стрелять, сами возить и проч. Придётся сделать 7−8 рейсов. Чрезвычайно много отнимет времени, но больше выделять людей не рискую. Пока всё тихо. О результатах доложу». Вот ещё письмо: «Операцию по решениям Тройки провёл только на 115 человек, так как ямы приспособлены не более, чем под 100 человек». Третье послание в Иркутск гласило: «Операцию провели с грандиозными трудностями. При личном докладе сообщу более подробно. Пока всё тихо и даже не знает тюрьма. Объясняется тем, что перед операцией провёл ряд мероприятий, обезопасивших операцию». В 1938-м в Бодайбо было расстреляно 948 человек.
После суда Кульвец напоминал о своих недюжинных заслугах: «Заявляю ещё раз и с этим умру, что работал я честно, не жалеючи себя, получил туберкулёз, не гнушался никакой работой, вплоть до того, что по приговорам из Иркутска сам же приводил их в исполнение и в неприспособленных районных условиях приходилось таскать (трупы) на себе, я приходил с операции обмазанный кровью, но моё моральное угнетение я поднимал тем, что делал нужное и полезное дело Родине». В мае 1941-го военным трибуналом войск НКВД Забайкальского округа Кульвец как «бывший эсер и белогвардейский прислужник, японский шпион и диверсант, харбинский прихвостень, готовивший убийство руководства Иркутской области, взрывы на Транссибирской магистрали с целью отторжения Дальнего Востока в пользу Японии» был приговорён к расстрелу, но вскоре оказался помилован, получив десять лет лагерей.
Наряду с Кульвецом известны и другие «чемпионы» по части массовых убийств. Капитан госбезопасности УНКВД по Ленинградской области М. Р. Матвеев был организатором и основным исполнителем расстрела 1.111 заключённых Соловецкой тюрьмы особого назначения НКВД 27 октября и 1−4 ноября 1937 г. под г. Медвежьегорском в Карелии; он расстреливал по 200 — 250 человек в день.
Среди его жертв лучшие представители украинской культуры (около 300 человек); среди них писатели Н. Зеров, Н. Кулиш, М. Ирчан, О. Слисаренко, В. Полищук, П. Филиппович, В. Пидмогильный, М. Вороный. От руки Матвеева погибли белорусский театральный режиссёр Лесь Курбас, адвокат А. Бобрищев-Пушкин (защитник Бейлиса и Пуришкевича), создатель Гидрометеослужбы СССР А. Вангенгейм, основатель удмуртской литературы Кузебай Герд, белорусский министр Ф. Волынец, крымскотатарский общественный деятель И. Фирдевс, председатель московского цыганского табора Г. Станеско, грузинские князья Н. Эристов и Я. Андронников, католический администратор Грузии Ш. Батмалашвили, черкесский писатель Х. Абуков, корейский деятель Тай До, православные епископы Алексий, Дамиан, Николай и Пётр, лидер баптистов СССР В.И. Колесников, академик-историк Н. Дурново. В 1938-м Матвеев был арестован и осуждён за некое «превышение власти при проведении расстрелов»; впоследствии он жил в Ленинграде, где и умер в 1974-м. Могилы узников Соловков были обнаружены только летом 1997 г. Их оказалось около 150, размером четыре на четыре метра и двухметровой глубины.
Согласно приказу М.П. Фриновского от 5 августа 1937 г., смертные приговоры в отношении лагерников должны были приводиться в исполнение «специально отобранным начальствующим составом и стрелками военизированной охраны» под личным руководством начальника оперчекотдела лагеря либо его заместителя. 16 августа того же года Ежов предписал при производстве расстрелов осуждённых в тюрьмах приводить приговоры в исполнение начальствующим и надзорным составом под личным руководством начальника тюрьмы или его помощника по оперативной части.
В казнях заключённых лагерей участвовали и специальные эмиссары. Известный палач Ефим Кашкетин (упоминается как Кашкотин в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба»), ранее увольнявшийся из НКВД в связи с психическим заболеванием, был затем принят в аппарат ГУЛАГа и отличился в массовых расстрелах узников Ухто-Ижемского лагеря НКВД. Вооружённый пулемётами взвод расстрельщиков под командованием Кашкетина весной 1938 г. расстрелял не менее 2.508 человек. В марте 1940-го Кашкетин был осуждён к расстрелу за массовую фальсификацию дел и избиения заключённых. В массовых убийствах постоянно участвовали и высокопоставленные чекисты с милиционерами. Так, 2 сентября 1937 г. замначальника УНКВД по Московской области майор госбезопасности С.И. Лебедев и начальник УРКМ капитан милиции М.И. Семёнов лично расстреляли 111 осуждённых.
В годы террора нередко казнили подростков и беременных женщин. В Грузии (Батуми) по обвинению в организации покушения на Берию была расстреляна группа подростков-школьников. В 1937-м тройкой под председательством наркома внутренних дел Грузии С.А. Гоглидзе была приговорена к расстрелу группа девушек.
О полном произволе региональных руководителей НКВД свидетельствует и дело начальника Житомирского облУНКВД Г. М. Вяткина, который был арестован с санкции Хрущёва 16 ноября 1938 г. в связи с побегом наркома внутренних дел УССР А.И. Успенского. На следствии он показал: «..Тягчайшим из совершённых мною преступлений я считаю расстрел по приговору тройки около .. (пропуск в документе — А.Т.) тысяч человек, арестованных Житомирским областным управлением и обвинённых в принадлежности к „ПОВ“ и немецко-фашистской организации, не будучи уверенным в виновности значительной части их..» По единоличным распоряжениям Вяткина было расстреляно в Житомирской области свыше 4.000 человек, в том числе несовершеннолетние дети и беременные женщины, причём более чем на 2.000 расстрелянных протоколы членами тройки не были подписаны, а на многих расстрелянных не оказалось следственных дел. В феврале 1939-го Вяткин сам был расстрелян.[54]
Ограбление расстрелянных
Раздевание до белья или донага было постоянным обычаем в советской расстрельной практике 20 — 40-х годов (обнаруженные в 1979 г. многочисленные мумифицированные трупы на размытой Обью территории колпашевской тюрьмы были именно в нижнем белье). Правда, если казнили за городом, то, как показывают раскопки последних лет, в могилах обнаруживаются обувь, остатки верхней одежды и довольно многочисленные личные вещи. Верхняя одежда осуждённых обычно изымалась в доход государства, ценные вещи распределялись за бесценок (или расхищались) чекистами, ими также торговали в спецмагазинах. Эти спецмагазины были открыты в период «Большого террора», а в годы гражданской войны присвоение имущества осуждённых осуществлялось открыто.
ЧК изначально была не только карательной, но и мародёрской организацией. В августе 1919-го ВЧК издала приказ о том, что вещи расстрелянных концентрируются у видного чекиста А.Я. Беленького — начальника охраны Ленина — и распределяются по указанию президиума ВЧК. Награбленное шло в первую очередь начальству. Сам Ленин получил от хозотдела Московской ЧК счёт за полученные костюм, сапоги, подтяжки, пояс — всего на 1.417 руб. 75 коп. У Петрочека «был свой счёт в Нарбанке, на который поступали конфискованные у осуждённых деньги и выручка за продажу их имущества; рядовые чекисты не брезговали торговать одеждой и обувью казнённых и, случалось, предлагали выкупить всё это их родственникам». По словам академика В.И. Вернадского, «чиновники чрезвычайки производят впечатление низменной среды — разговоры о наживе, идёт оценка вещей, точно в лавке старьёвщика».
После расстрелянных в 1937 — 1938 гг. осталось много одежды, которую постоянно пытались расхитить (например, в Якутии); в Тобольске и Куйбышеве (бывшем Каинске) её в 1938-м по приказам начальства сжигали, но далеко не всю: чекисты присваивали себе костюмы, дохи, шапки, а «врач» С.К. Иванов не побрезговал и пимами.
Ограбление расстрелянных стало традицией со времён гражданской войны: А.И. Мосолова, зампреда Омской губчека, в 1921 г. губком РКП (б) исключил из партии (ненадолго) именно за распределение вещей расстрелянных среди подчинённых и красноармейцев. В 1939-м бывший начальник особой инспекции новосибирской облмилиции И.Г. Чуканов свидетельствовал, что начальником управления НКВД И. А. Мальцевым «поощрялось мародёрство, он не принимал никаких мер к тем, кто снимал ценности с арестованных, приговорённых к ВМН».
Подтверждая эти слова Чуканова, оперуполномоченный угрозыска Куйбышевского райотдела НКВД Михаил Качан показывал: «При исполнении приговоров изымались деньги, которые затем тратились на попойки. Однажды мы нашли мало денег, так Малышев сказал, что сегодня были бедняки. Эти деньги никуда не сдавались. У одних китайцев были изъяты деньги 500 рублей, а затем их не нашли». Доставались каинским душителям и золотые вещи.[55]
На Алтае было то же самое: помначальника алтайского управления НКВД Г. Л. Биримбаум и начальник оперотдела В.Ф. Лешин в 1938-м присваивали деньги, отобранные у арестованных. Биримбаума осудили, а Лешин, который исправно участвовал в расстрелах, получил всего лишь строгий выговор за систематическое пьянство и халатность, благополучно продолжая работу в НКВД и в 40-е гг. Точно так же присваивали деньги и ценности своих жертв расстрельные команды УНКВД по Ульяновской области. А магаданскому начальнику УНКВД по Дальстрою В. М. Сперанскому в числе разнообразных уголовных обвинений вменялась и трата 80 тыс. рублей, изъятых у арестованных, большая часть которых была отправлена на расстрел.[56]
«Применение извращённых методов..»
Откровенный садизм практиковался очень многими расстрельщиками во всех регионах СССР. Один из бериевских подчинённых К. Савицкий в 1953-м утверждал: «К тем арестованным, которые давали признательные показания, меры физического воздействия в процессе следствия не применялись. Но при приведении приговоров в исполнение их обязательно избивали по указанию Берия, который говорил: «Прежде чем вести их на тот свет, набейте им морду». Очевидец расстрелов в Тбилиси эпохи «Большого террора» показал в 1954-м: «Жуткие сцены разыгрывались непосредственно на месте расстрелов. Кримян, Хазан, Савицкий, Парамонов, Алсаян, Кобулов. как цепные псы набрасывались на совершенно беспомощных, связанных верёвками людей, и нещадно избивали их рукоятками от пистолетов».
Сам Берия также лично издевался над уже осуждёнными. Так, в январе 1954 г. бывший начальник 1-го спецотдела НКВД Л.Ф. Баштаков показал следующее: «На моих глазах, по указаниям Берия, Родос и Эсаулов резиновыми палками жестоко избивали Эйхе, который от побоев падал, но его били и в лежачем положении, затем его поднимали, и Берия задавал ему один вопрос: „Признаёшься, что ты шпион?“ Эйхе отвечал ему: „Нет, не признаю“. Тогда снова началось избиение его Родосом и Эсауловым, и эта кошмарная экзекуция над человеком, приговорённым к расстрелу, продолжалась только при мне раз пять. У Эйхе при избиении был выбит и вытек глаз. После избиения, когда Берия убедился, что никакого признания в шпионаже он от Эйхе не может добиться, он приказал увести его на расстрел».
А.С. Алексеев в 1937—1938 гг. руководил Минусинским оперсектором УНКВД по Красноярскому краю и организовывал массовые операции по исполнению смертных приговоров. О том, как Алексеев экономил патроны, свидетельствовали его подчинённые. Так, «Никитин показал, что выполняя операцию по приведению постановлений о расстреле над большим количеством репрессированных, Алексеев должным образом проведение этой операции не организовал, процесс носил мучительный характер, т. к. многие из репрессированных оставались раненными и по указанию Алексеева их добивали ломом». Когда подчинённый осенью 1937-го ему доложил, что один из своры пьяных палачей (А.И. Королёв) пытался взорвать осуждённого с помощью электродетонатора, Алексеев заявил: «Не то ещё делали, главное — быстрее расстреливать да беречь патроны». Один из чекистов показывал: «..Один раз, в октябре 1937 года, пришлось быть в подвале при проведении одной из операций и видеть, что расстрел производился сотрудниками, находившимися в нетрезвом состоянии и в обстановке полной дезорганизации».
В 1938-м Алексеев и помначальника Хакасского облуправления НКВД И.И. Дзедатайс были признаны виновными в том, что, «являясь руководителями операций по приведению в исполнение приговоров над лицами, которым назначалась высшая мера наказания, проявили халатность и бесконтрольность за подчинёнными, что привело к систематическому употреблению спиртных напитков сотрудниками во время проведения данных операций и бегству 3-х граждан из подвала, где производились расстрелы, а Дзедатайс И.И., кроме того, совместно с Новосёловым И.К., Королёвым А.И. и другими работниками оперсектора, лично участвовал в издевательствах над осуждёнными». За «дискредитацию звания сотрудника НКВД» Алексеев и другие Особым совещанием при НКВД СССР 22 октября 1938 г. были осуждены. В жалобах на необоснованность приговора этот старый чекист указывал, что им в 1937 г. лично арестовано 2.300 «троцкистов», из которых более 1.500 расстреляно. Власти вняли этим весомым аргументам. В январе 1941 г. Алексеев был освобождён из заключения, остался в системе ГУЛАГа и два года спустя добился снятия судимости (в 1944-м он при неясных обстоятельствах погиб в лагере при исполнении служебных обязанностей). Осуждённые вместе с Алексеевым И.И. Дзедатайс, замеченный в издевательствах над приговорёнными, и И.К. Новосёлов (этот инструктор ЗАГСа ещё и мародёрствовал), обращаясь с прошениями о помиловании, упирали на то, что ими при расправах двигало чувство классовой ненависти.
С.Р. Шишкин, возглавлявший один из райотделов НКВД в Ямало-Ненецком округе, в 1939-м был отдан под суд за участие в пыточном следствии, присвоение личных вещей расстрелянных, скрытие смертей заключённых от избиений, участие в расстрелах в пьяном виде. Начальник Ямало-Ненецкого оперсектора НКВД А.И. Божданкевич, приводивший приговоры в исполнение в одном из служебных кабинетов, а также днём в клубе окротдела, получил пять лет, но вскоре был амнистирован. Всего под суд за нарушения законности, пытки и нарушения правил исполнения приговоров попали 13 сотрудников Ямало-Ненецкого оперсектора, но почти все они отделались минимальными наказаниями, зачастую не связанными с лишением свободы.
Есть свидетельство очевидца о массовых казнях в г. Канске: «Во дворе Канской тюрьмы расстреляли около 500 человек и тут же во дворе закопали. Когда убитые не вмещались в яму, их рубили шашками на куски, чтобы было плотнее..»
Среди работников барнаульской тюрьмы в 1940 г. ходили рассказы о том, как в 1937—1938 гг. по приказу начальника УНКВД по Алтайскому краю С.П. Попова уничтожали приговорённых к расстрелу крестьян: политрук тюрьмы Ю.Г. Логвинов рассказывал знакомому, что их пытали, а потом «убивали ломом и сваливали в большую яму, которую я, будучи на работе в тюрьме, осматривал». В мае 1940 г. военная коллегия Верхсуда СССР в Москве осудила 11 работников Вологодского УНКВД во главе с начальником управления С.Г. Жупахиным. Трое из них — Власов, Воробьёв и Емин — обвинялись в применении «извращённых способов приведения приговоров в исполнение». Семерых чекистов постановили расстрелять. О том, что это были за «способы», можно судить по материалам комиссии Политбюро ЦК КПСС, полностью опубликованным только в 2003 г.: в декабре 37-го работники Белозёрского райотдела НКВД Анисимов, Воробьёв, Овчинников, Антипин и другие вывезли в поле 55 осуждённых и «порубили их топорами». В том же райотделе двух женщин забили до смерти поленьями.
Василий Лебедев в 1937—1938 гг. был начальником Особого отдела УНКВД по Житомирской области УССР, пытал арестованных, участвовал в расстрелах. Известно, что тамошние чекисты одну 67-летнюю женщину забили в гараже лопатой. В 1940-м его исключили из партии за, в том числе, «применение извращённых методов при приведении приговоров в исполнение» и осудили на пять лет. Но уже в 1941 г. В.Е. Лебедев был освобождён из заключения в связи с отменой приговора военной коллегией Верхсуда СССР.
Отдельной строкой следует упомянуть и сексуальную окраску многих расправ. Те же сотрудники Куйбышевского оперсектора (не только расстрелянные в Новосибирске в 1940-м, но и оставшиеся безнаказанными милиционеры) в 1938 г. заставили совершить в своём присутствии половой акт осуждённую учительницу и осуждённого мужчину, обещая за это помиловать. Сразу после окончания «представления» несчастные были задушены. Оперативник Куйбышевского оперсектора С.К. Иванов оклеветал забеременевшую от него уборщицу как шпионку и лично участвовал в её расстреле, причём начальник оперсектора Лихачевский при этом, смеясь, подсчитывал, сколько в результате Иванов сэкономил на алиментах. Новосибирский контрразведчик Отто Эденберг сожительствовал со своим агентом актрисой Иолантой Мацур прямо в тюрьме, где та была внутрикамерной осведомительницей, а когда женщина забеременела, составил «альбомную справку» на неё с целью добиться расстрела наложницы как шпионки. В приговоре 1941 г. над руководящими работниками управления НКВД по Алтайскому краю глухо упоминалось, что начальник Бийского оперсектора В.И. Смольников допустил, а его подчинённый Г. С. Каменских «производил исключительные зверства и циничные издевательства над женщинами при приведении приговоров с высшей мерой наказания».[57]
Побеги
Карательную практику определённым образом корректировали сравнительно частые побеги, в том числе осуждённых к высшей мере наказания. Побеги из-под стражи были частым явлением, хотя нередко заканчивались гибелью беглецов. Газета «Дело революции» в 1920 г. не раз публиковала сообщения Новониколаевской чека о таких попытках. Так, 17 июля при попытке бежать был застрелен заведующий химотделом райсовнархоза инженер В.Н. Скворцов. 28 сентября 1920 г. сообщалось, что выведенный на расстрел «агент польской контрразведки» А.Г. Остапкович воспользовался темнотой и бежал, но «попался в одну из устроенных засад в Нахаловке» и был застрелен – «смерть констатирована врачом». 3 октября сообщалось, что неделей ранее трое арестованных чекистами пытались бежать при конвоировании к станции Коченёво, но были убиты охраной. Был и групповой побег 12 «важных арестантов», произошедший 8 октября 1920 г. (арестованные, в основном, бывшие офицеры, боясь расстрела, в темноте напали на караул и выломали ворота) и закончившийся, похоже, удачно для нескольких человек.[ 58 ]
36-летний житель села Баган Василий Малашенко, будучи 26 сентября 1930 г. выведен в составе группы из 25 человек на расстрел в Новосибирске, воспользовался темнотой и бежал при «сопровождении его к месту расстрела». Как отмечали составители акта о расстреле и побеге – комендант полпредства Н. Майстеров, его помощник М. Рачков и дежуривший в те сутки по полпредству оперработник Захаров – беглец не был разыскан сразу. О дальнейшей судьбе Малашенко сведений нет, а его подельников, прошедших по известному делу «Чёрные», всех казнили в тот же день, в 11 часов вечера.[ 59 ]
Материалы партийных органов о взысканиях за служебные проступки свидетельствуют о частых побегах приговорённых к высшей мере. Начальник Болотнинской раймилиции Запсибкрая Огневский постановлением райкома ВКП(б) в ноябре 1932 г. был снят с должности за допущение побега приговорённого к расстрелу по указу ЦИК СССР от 7 августа 1932 г. Лушкина. Другой начальник Болотнинского райотдела милиции – П.И. Лаворчик – в мае 1935 г. получил партвыговор за побег из КПЗ троих заключённых, включая двух осуждённых к расстрелу.[ 60 ]
Тайные убийства
Специфическим способом тайной политической казни было использование инсценированных несчастных случаев. Один из первых известных – гибель Бориса Савинкова, относительно которой сохранилось свидетельство самого Сталина.
В своих объяснениях Л.П. Берии от 27 марта 1953-го С.Д. Игнатьев, экс-министр госбезопасности, цитировал слова Сталина, который с конца октября 1952 г. стал настойчиво требовать истязать «врачей-вредителей», отказывавшихся признаваться: «Бейте!» – требовал он от нас, заявляя при этом, – «вы что, хотите быть более гуманными, чем был Ленин, приказавший Дзержинскому выбросить в окно Савинкова? У Дзержинского были для этой цели специальные люди-латыши, которые выполняли такие поручения. Дзержинский – не чета вам, но он не избегал черновой работы, а вы, как официанты, в белых перчатках работаете. Если хотите быть чекистами, снимите перчатки». Игнатьев докладывал о вещах недавних и вряд ли путал или придумывал. Информация любопытнейшая.
Само собой, что Ленин к смерти Бориса Савинкова, погибшего в 1925-м, не мог иметь отношения по определению. Очень похоже, что здесь товарищ Сталин свой собственный приказ Дзержинскому покончить с самым известным из тогдашних арестантов весьма нахально свалил на безответного Ильича… Раскаявшийся Савинков был уже не нужен, а его «самоубийство» дополнительно компрометировало этого бывшего боевика и политического лидера. «Люди-латыши», специализировавшиеся на тайных убийствах и подчинённые непосредственно Дзержинскому, тоже вряд ли сочинены. Вполне возможно, это были сотрудники комендатуры ОГПУ, в чьей твёрдости не могло быть сомнений.
В мае 1939 г. (с разницей в два дня) сокамерниками были убиты одни из виднейших большевиков Карл Радек и Григорий Сокольников. Оба они в январе 1937 г. были осуждены на 10 лет заключения, но товарищ Сталин в итоге решил, что эти его враги будут предпочтительнее в мёртвом виде. Бывших оппозиционеров сгубила откровенность: и Радек, и Сокольников, по сообщениям агентуры, постоянно в самых резких выражениях обвиняли Сталина в фальсификации тогдашних политических процессов. Иосиф Виссарионович, лично сохранивший им жизнь (в архиве отложился проект приговора, отправленный Ульрихом Ежову с предложением расстрелять всех проходивших по процессу «параллельного центра»; представить, что Ежов без одобрения Сталина изменил этот проект, немыслимо), очень обиделся на такую неблагодарность.
Прочитав в очередной раз записку с информацией о том, что о нём говорили бывшие цекисты-ленинцы, он распорядился исправить свою ошибку двухлетней давности. По распоряжению Берии и Кобулова вскоре было организовано убийство и Радека, и Сокольникова, причём в качестве исполнителей выступили «специально подосланные» осуждённые за политические и должностные преступления бывшие работники НКВД. Они, надо думать, с радостью выполнили ответственное поручение по уничтожению заклятых врагов народа. Из объяснений видных работников центрального аппарата НКВД-МГБ П.В. Федотова и Я.М. Матусова, готовивших ликвидации, следует, что «Кобулов, требуя безукоризненного их исполнения, подчёркивал, что они осуществляются с ведома Сталина».[ 61 ]
Действовавшая по указанию Берии спецлаборатория НКВД во главе с Г. Майрановским многие годы испытывала на заключённых-смертниках различные яды, умертвив около 150 человек. В июле 1939-го тайком в поезде по приказу Сталина и Берии был вместе со своей женой убит полпред и одновременно резидент внешней разведки в Китае И.Т. Бовкун-Луганец. Потом была инсценировка автокатастрофы и торжественные похороны. Исполнителям операции объяснили, что тайное убийство «шпионов» осуществлено для того, чтобы иностранная разведка не догадалась об их разоблачении, а подчинённые полпреда не стали невозвращенцами.
В те же месяцы по приказу Сталина была тайно арестована, а затем так же тайно, без оформления документами, расстреляна жена маршала Кулика К.И. Симонич-Кулик, подозревавшаяся в шпионаже. Комендант МГБ СССР В.М. Блохин в 1953 г. показал, что перед войной он по приказу Б.З. Кобулова, помимо жены Кулика, расстрелял точно таким же образом одного мужчину, причём Кобулов заявил, что документы о расстреле будут оформлены задним числом. Фамилия этого расстрелянного осталась невыясненной. В 1947 г. на Лубянке тайно убили шведского дипломата Рауля Валленберга, в 1948-м в Минске – гениального актёра Соломона Михоэлса. Известно и о многих других тайных жертвах сталинской мести, в том числе за границей – эти эпизоды достаточно подробно описаны в литературе.[ 62 ]
Награды палачам
Непосредственно исполнителям приговоров прежде всего давалась возможность пить вволю. Начальник Куйбышевского оперсектора НКВД Леонид Лихачевский показывал, что с «ведома управления участникам операций разрешалось употребление спиртных напитков, на что отпускались средства. (…) Выпивки после операций были как правило и проходили они в помещении райотделения или у меня на квартире. (…) Учёта вещам, оставшимся после расстрела осуждённых, не было, так как на этот счёт не было указаний» [ 63 ]. Вполне вероятно, что отсутствие указаний было сознательным и имущество казнённых руководство УНКВД рассматривало как награду исполнителям приговоров.
Напряжённейшая работа чекистов в пиковые месяцы террора была по достоинству отмечена партией и правительством. И не только бесплатной водкой. В честь ударников смертельного ремесла не звучали фанфары, но их имена – в таком большом количестве первый и последний раз – были опубликованы в печати. В честь двадцатой годовщины «органов» по огромному (на 392 человека) наградному списку, заготовленному в НКВД, власти отметили многих палачей, опубликовав 21 декабря их имена в «Красной Звезде».
Ордена получили и видные работники комендатуры НКВД в Москве (например, П.И. Магго и В.И. Шигалев), и их коллеги на местах. В числе последних были: в Новосибирске – начальник внутренней тюрьмы и одновременно начальник тюремного отдела УНКВД С. И. Корнильев (орден Красной Звезды), дежурный ДПЗ, а в 1941-м начальник внутренней тюрьмы Г.И. Ершов (Знак Почёта), замначальника ДПЗ В.И. Пачуфаров (орден Красной Звезды) и рядовой работник комендатуры П.А. Гудков, который ещё в 1936-м был скромным фельдъегерем, а три года спустя стал начальником тюрьмы (Знак Почёта); в Красноярске – комендант УНКВД М.И. Пульхров (орден Красной Звезды) и дежурный комендант М.П. Ждамиров, к 1939 г. ставший начальником местной внутренней тюрьмы (Знак Почёта); в Барнауле – комендант УНКВД Д.М. Булгаков (орден Красной Звезды). Комендант УНКВД по Читинской области С.С. Воробьёв также получил орден Красной Звезды.
Фамилии этих людей значились по соседству с награждёнными начальниками управлений НКВД и руководителями отделов управлений и наркоматов. По всей видимости, так же были отмечены коменданты прочих региональных управлений по всей стране. Их портреты печатали областные газеты, но должности, естественно, не назывались – разрешалось лишь указать, какой орден получен данным сотрудником НКВД. Так, о Д.М. Булгакове «Алтайская правда» 24 декабря сообщала, что «немало врагов народа было разоблачено благодаря его чуткости и бдительности», отмечая, что ордена чекиста удостоили за «образцовое и самоотверженное выполнение специальных заданий партии и правительства».
Награждение исполнителей приговоров в декабре 1937-го было беспрецедентным по масштабу. Но и в дальнейшем служба комендантских работников щедро отмечалась как ведомственными, так и правительственными наградами. Иван Сергованцев, бывший партизан и красноармеец, с 1929-го работал кучером Барнаульского окротдела ОГПУ, в первой половине 30-х стал дежурным комендантом Омского и Барнаульского оперсекторов. На 1937 – 1939 г. Сергованцев работал дежурным комендантом УНКВД по Алтайскому краю, заработав казнями очень ценимый гебистами знак «Заслуженный работник НКВД». В 1945-м чекист-ветеран получил за выслугу орден Ленина.
Я.Г. Коновалов в 1919-м учился на курсах ВЧК в Москве, затем был откомандирован в Сибирь. Работал в комендатуре полтора десятка лет, расстреливая в Новосибирске с конца 1920-х гг. В 1945-м этот 50-летний капитан УНКГБ по Новосибирской области был награждён орденами Красного Знамени и Ленина, а десять лет спустя числился почтенным пенсионером КГБ. В 1946-м орден Ленина за выслугу получил и Д.М. Булгаков, доросший до должности начальника отдела «В» (цензура) УНКГБ по Алтайскому краю. Комендант УНКВД по Омской области И.Д. Шестаков в конце 1930-х гг. стал депутатом горсовета.[ 64 ]
Из комендатур – в номенклатуру
Следует отметить, что неизвестны случаи (в Сибири, по крайней мере) привлечения к уголовной ответственности комендантов управлений НКВД, несмотря на их тесную связь с расстрелянными как «заговорщики» начальниками УНКВД. Зато начальники тюрем репрессировались нередко. В 1937-м по инициативе начальника УНКВД Г.С. Хорхорина был арестован и осуждён на пять лет заключения начальник Читинской тюрьмы И.П. Китицын. В ноябре 1939 г. в Чите были арестованы начальник тюрьмы Н.Я. Булгаковский и начальник тюремного отдела УНКВД Д.Г. Потапейко – похоже, единственный в Сибири случай репрессий в отношении тюремных чиновников такого уровня после окончания «Большого террора».
Глава управления НКВД по Алтайскому краю Серафим Попов, громя врагов в УНКВД по Алтайскому краю, арестовал многих тюремных работников и расстрелял начальника внутренней тюрьмы Станислава Стычковского, осмелившегося в конце 37-го обратить внимание Попова на то, что арестованных сажать уже некуда. Возможно, основную роль в его гибели сыграла национальность – Стычковский был поляком. Сразу восемь работников Барабинской тюрьмы угодили за решётку в 1938-м: их сначала обвиняли в служебных преступлениях, но потом добавили и политическую статью. Портной этой тюрьмы был арестован «только за то, что проходя мимо будки, сказал, что здесь приводятся приговора в исполнение».[ 65 ] Но коменданты обычно были вне подозрений. Дежурные коменданты становились комендантами, начальниками тюрем и постепенно продвигались по служебной лестнице.
О работе комендантов в период, когда казней стало намного меньше, свидетельствуют показания Ю. Г. Логвинова, пожаловавшегося приятелю на тяжёлые условия работы в тюрьме и получившего за «разглашение государственной тайны о порядке приведения приговоров в исполнение» пять лет заключения. Политрук тюрьмы говорил, что в 1940 г. осуждённого ночью приводили к коменданту УНКВД по Алтайскому краю, после чего тот скручивал заключённому руки за спиной, а в рот заталкивал палку, которую фиксировали верёвкой. Обеспечив тишину с помощью такого импровизированного кляпа, комендант уводил обречённого к месту казни.
В мае-июне 1940 г. десятки работников центрального аппарата и местных органов НКВД участвовали в расстрелах почти 22 тыс. польских граждан, осуждённых решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. О мастерстве, проявленном палачами, говорят данные немецкой экспертизы трупов, обнаруженных в Катыни и убитых выстрелами в область основания черепа, причём, как правило, одной пулей: «Удивительное однообразие ранений и локализация выстрела в очень ограниченной части затылочной кости позволяют заключить, что выстрел производился умелой рукой». Полгода спустя Берия специальным приказом наградил 44 сотрудника НКВД (включая известных расстрельщиков из комендатуры НКВД СССР В.М. Блохина, И.И. Шигалева, Д. Э. Семенихина) месячным окладом, а 81 чекиста – премией размером 800 руб.
Меткий глаз и твёрдая рука вкупе с крепкой психикой давали палачам шанс хорошего продвижения. Лучшая карьера из известных нам сибиряков – у С. И. Корнильева, дослужившегося в конце войны до начальника УНКВД-УМВД по Томской области, но с позором снятого в ноябре 1946-го за огромные финансовые злоупотребления. Комендант Ивановского облУНКВД в годы террора Фролов впоследствии работал заместителем начальника УНКВД по Калининградской области; правда, после войны он сошёл с ума и умер в психиатрической больнице. Б.К. Шаблинский, работавший в 1921 – 1922 гг. дежурным комендантом Екатеринославской губчека, затем перешёл на хозяйственную и партийную работу, а в 1939-м возглавил УНКВД по Винницкой области. Комендант ГПУ УССР с 1933 г. А.Г. Шашков пять лет спустя стал заместителем начальника УНКВД по Донецкой, а затем по Запорожской и Черновицкой областям. В 1941 – 1942 гг. Шашков возглавлял Особый отдел НКВД 2-й Ударной армии А.А. Власова и застрелился, попав в окружение.
Исполнители приговоров на местах, уйдя из ОГПУ-НКВД, тоже нередко дорастали до высоких должностей, входя в номенклатуру районного, городского и областного уровня. При этом карьере не препятствовало и увольнение из «органов» за уголовные преступления: так, М.А. Захаров, снятый в 1922 г. с работы в ВЧК за «самочинные расстрелы», в 1934 – 1937 гг. подвизался секретарём Исовского райкома ВКП(б) Свердловской области, пока за незаконные поборы не был осуждён на 10 лет заключения.
Вот примеры должностных метаморфоз тюремных работников. Комендант Якутского облотдела ОГПУ Г.А. Грицкевич с 1926 г. работал инструктором Легостаевского райкома ВКП(б) в Новосибирском округе. 25-летний П.И. Снегирёв как помначальника Барабинской тюрьмы весной 1936-го участвовал в расстрелах, а в 1937 – 1938 гг. допустил массовую смертность заключённых от голода. На 1938-й он ещё начальствует в Барабинской тюрьме, а на 1940-й – уже заместитель редактора районной газеты «Знамя стахановца» и член бюро Куйбышевского райкома комсомола. Затем Снегирёв заведует райздравотделом, а весной 1941-го становится председателем Куйбышевского горисполкома. Рядом с ним трудился Д. С. Фоменко, бывший чекист, партработник, в 1937-м мобилизованный в НКВД и в качестве секретаря Куйбышевского РО НКВД участвовавший в массовых расстрелах осуждённых. В 1939 г. Фоменко стал секретарём райисполкома и был выдвинут в депутаты Куйбышевского райсовета.
Л.Ф. Ернов, один из немногих чекистов из народности ханты, самоучка, до 1937 г. работал помощником коменданта Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) окротдела УНКВД по Омской области в Сургутском районе. В 1937-м его перебросили на партийную работу и три года спустя Ернов уже был вторым секретарём Омского обкома ВКП(б). Партийная карьера Г.И. Мигучкина, до начала 1930-х гг. работавшего комендантом губотдела-окротдела ОГПУ в Омске, была скромнее: в 1940 г. его утвердили инструктором отдела кадров Вокзального райкома ВКП(б) г. Томска.[ 66 ]
Некоторые исполнители приговоров дождались официального признания, как ни парадоксально, в перестройку. Так, в Барнауле с 1987-го существует улица имени Семёна Бабуркина (1890 – 1954). Этот алтайский крестьянин, доброволец Красной Гвардии, партизан и председатель волревкома, в 1921-м одновременно возглавлял коммунистический отряд по борьбе с политбандитизмом, за что был награждён орденом Красного Знамени. С 1925-го он работал начальником Барнаульского окружного адмотдела, но получил партвыговор за пьянство и устройство «грандиозной попойки» с участием почти всего начсостава милиции. Пьющего начальника всех милиционеров округа сняли и в конце 1927 г. взяли в Барнаульский окротдел-оперсектор ОГПУ на должность дежурного коменданта, в каковой Бабуркин проработал несколько лет. В первой половине 1930-х гг. в Барнауле были расстреляны многие сотни людей. Не выдержав перегрузок, Бабуркин заболел эпилепсией и в 1935-м был уволен из НКВД как инвалид. Работал председателем колхоза, умер где-то в деревне и много лет спустя в юбилейный год за свои заслуги в гражданской войне удостоился улицы…[ 67 ]
На исходе «Большого террора»
Расстрелы в конце 1938-го в целом ряде регионов послужили способом спрятать концы в воду. Нарушая указание Москвы немедленно прекратить расстрелы с 15 ноября 1938-го, партийные и чекистские боссы тайком расстреляли фигурантов множества липовых дел, тем самым «подчистив» переполненные тюрьмы.[ 68 ] Третий секретарь Крымского обкома ВКП(б) А. Сеит-Ягьяев, будучи членом тройки НКВД, 25 и 26 ноября 1938 г. подписал несколько протоколов о расстреле большого количества людей, оформив их задним числом. Всего по спискам, оформленным и подписанным с 20 по 29 ноября, крымские чекисты расстреляли 822 человека. Об этом стало известно и в апреле 1939-го секретаря исключили из партии за «грубейшее нарушение революционной законности». Но он остался на свободе (по крайней мере, ещё на год после изгнания из рядов) – в марте 1940 г. Комиссия партконтроля при ЦК ВКП(б) отложила рассмотрение апелляции Сеит-Ягьяева в связи с его неявкой на разбирательство.
В Киргизии замначальника отделения отдела контрразведки В.В. Куберский 6 декабря 1938 г. – по сговору с замнаркома НКВД Киргизии М.Б. Окуневым, который написал фиктивный, датированный задним числом, приказ начальнику Каракольского горотдела НКВД – привёл в исполнение в г. Караколе решение тройки о расстреле 150 осуждённых. Окунев был осуждён 15 апреля 1940 г. «за производство необоснованных арестов и извращение революционной законности» – вероятно, к высшей мере; что касается Куберского, то ему высшую меру в 1939-м заменили на 10 лет заключения и на 1954 г. он был начальником стройуправления в Карелии. Есть сведения, что начальник УНКВД Немцев Поволжья И.З. Рессин также проводил задним числом после 15 ноября расстрельные решения тройки, но уже 19 ноября 1938 г. он был арестован и затем осуждён к высшей мере наказания.
Начальник УНКВД по Иркутской области Б. А. Илюченко-Малышев был арестован 5 января 1939-го и в июле 1941 г. осуждён к расстрелу как участник «заговорщицкой организации» и активный участник массовых репрессий (в частности, «вопреки правительственному указанию от 15.XI. и 17.XI-1938 г. продолжал приводить приговора в исполнение на лиц, ранее осуждённых на тройке к ВМН»). Возможно, и упоминавшийся выше массовый расстрел в январе 1939-го, осуществлённый читинскими чекистами, был способом избавиться от ненужных свидетелей…
Следует отметить, что «Большой террор» не ограничился истреблением советских граждан. Чекисты многими тысячами расстреливали в 1937 – 1938 гг. монголов, в 1940 г. – польских военнопленных. А в 1937-м советские власти активно вмешались в гражданскую войну в Китае, поддержав лояльного СССР правителя (дубаня) провинции Синьцзян Шен-Ши-Цая. Разгромив восставших против «красного дубаня» дунган и уйгуров, полковник Норейко, командовавший группой из двух полков НКВД и одного полка РККА, 15 декабря 1937 г. отчитался в том, что из всей 36-й дунганской дивизии «убито и взято в плен 5612 человек, ликвидировано из числа взятых в плен 1887. (…) Из 6-й уйгурской дивизии убито и взято в плен около 8 тыс. человек, из числа пленных ликвидировано 607 человек». К 7 января 1938 г. число «ликвидированных» превысило три тысячи: 2.192 по 36-й дивизии и 853 – по 6-й. Ещё неделю спустя начальник управления пограничной и внутренней охраны НКВД СССР комдив Н. К. Кручинкин в своём докладе сообщал, что среди арестованных китайских граждан «уничтожено 96 японских агентов, 318 английских и несколько шведских». Сам Кручинкин тоже не избежит репрессий – вскоре его отзовут, арестуют и уже в августе 1938-го расстреляют.[ 69 ]
А дальше была страшная война, в период которой только военнослужащих было в судебном порядке расстреляно почти 158 тыс. Количество же расстрелянных без суда в боевой обстановке до сих пор неизвестно; по крайне мере, Берия после ареста в своём письме членам Президиума ЦК КПСС упоминал о десятках тысячах военнослужащих, расстрелянных в 1941-м. Массовые казни производились и в тылу. Пятнадцать тысяч расстреляли летом и осенью 1941 г. из числа неэвакуированных заключённых из западных областей Украины и Белоруссии. Так, в 23 тюрьмах Западной Украины на 10 июня 1941 г. находилось 23.236 заключённых, из которых значительная часть была ликвидирована при отступлении советских войск. Расстреливали в основном осуждённых за контрреволюционные преступления. Всего по Львовской области оказалось расстреляно 2.464 чел., Дрогобычской – 1.101, Станиславской – 1.000, Тарнопольской – 500 в Тарнополе и 174 – в Бережанах (из них 197 было погребено в подвале Тарнопольского УНКГБ и, как отмечали чекисты, «мелко очень зарыты, операцию проводил нач. УНКГБ»), Ровенской – 230, Волынской – 231, Черновицкой – 16, Житомирской – 47, Киевской – 116. Казнили не только в тюрьмах. Во время эвакуации из тюрьмы г. Глубокое поляки, как потом сообщали чекисты, стали кричать: «Да здравствует Гитлер!»; начальник тюрьмы Приемышев, доведя их до леса, расстрелял до 600 поляков. В Витебске Приемышева арестовали по приказу военного прокурора войск НКВД, но секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко признал действия начальника тюрьмы правильными и освободил его из-под стражи.
Много расстреливали в оккупированной Германии и других странах Европы. Сотни немцев, осуждённых в советской зоне оккупации Германии в конце 1940-х гг., были затем расстреляны в Москве. В 1953 г. в Восточной Германии казнили ряд советских военнослужащих, отказавшихся стрелять в восставших немцев. Впрочем, расстрелы послевоенного времени – пока совершенно неисследованная тема.
Алексей Тепляков
https://rusk.ru/st.php?idar=60586




Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.