Александр БАШМАКОВ: Народовластие и Государева Воля
Опыт догматического построения
 Башмаков Александр Александрович (1858–1943) — русский политический публицист, юрист, антрополог, палеонтолог и этнолог. После 1917 г. — эмигрант. Работа выходила отдельным изданием в С.-Петербурге в 1908 году.
Башмаков Александр Александрович (1858–1943) — русский политический публицист, юрист, антрополог, палеонтолог и этнолог. После 1917 г. — эмигрант. Работа выходила отдельным изданием в С.-Петербурге в 1908 году.
I
Мы постепенно выходим из хаотического периода нашего государственного кризиса.
Хотя сейчас еще трудно дать себе точный отчет в том, что окончательно уцелеет из введенных новшеств и самою природою вещей предуказывается, так сказать, неминуемость оседания сруба нашего государственного перестроения, однако есть основание думать, что натиск, направленный в корень государственных установлений, прекратился. На несколько поколений предвидим мы, с этой стороны, вероятную устойчивость национальной мысли. Рост и ломка установлений еще будут, но основная суть Верховенства определилась. Равновесие должно неминуемо установиться между требованиями критического умозрения и естественными велениями самой природы русского государства, между заимствованиями извне и регулирующей силой истории.
Время настало, когда можно и должно приступить к определению и построению основных начал русского государственного права. Эта теоретическая работа полезна и неотложна потому, что неясность в этих вопросах, с практической стороны, недопустима. В этой области более, нежели где бы то ни было, следует помнить, что идеи, положенные в основание здания, суть несокрушимые силы, связанные логическим сцеплением. Они суть, выражаясь словами французского теоретика национализма, философа Альфреда Фулье, «идеи-силы», от самодействия коих зависят будущие события. Если они цельны и гармоничны, если в них нет взаимного противоречия, прочность здания впереди нас. Если этой цельности и гармонии нет, здание должно рухнуть, и нет средств к тому, чтобы эту катастрофу предупредить.
Первым и основным вопросом является определение существа нашей суверенной власти, каким оно оказывается теперь, после всех состоявшихся преобразований последних двух лет. С введением форм народного представительства естественно возникает вопрос еще более важный, нежели известный спор о том, существует ли у нас самодержавие, или ограниченная монархия; этот вопрос касается самой природы суверенитета. Другими словами, необходимо дать себе ясный отчет в том, введен ли законодательством последних лет принцип народоправия или сохранено наше исконное начало, полагавшее всю суть верховенства власти в лице Монарха?
II
Параллельно с событиями и законодательными актами последняя эпоха дала нам громадный и небывалый наплыв сочинений по государственным вопросам; вся эта литература, начиная с серьезных трудов и кончая мелкими, агитационными брошюрами, потоком хлынула к нам из-за границы с отменою цензуры и дала на наших глазах внезапное и новое явление: среди населения, до тех пор не знавшего этих вопросов, сразу стала обращаться масса новых идей, доступных каждому, осаждавших каждого; к обсуждению трудных вопросов конституционного права или философии государствоведения были приобщены люди совершенно темные и неподготовленные, наскоро осведомленные политическими брошюрами сомнительного качества, дававшими в кратком объеме все необходимое, чтобы все и каждый могли, хотя бы на митингах, участвовать в дебатах по этим вопросам.
Эта переводная и компилятивная литература способствовала распространению того мнения, что суть государственной жизни всюду одна и та же и что можно ее постигнуть непосредственным поглощением того доселе запрещенного плода, каким представлялась заграничная агитационная пресса. Читателям в голову не могла прийти мысль об относительной пригодности того, что родилось в другой среде и соответствует другим потребностям и истории других рас. Самая возможность осмысленного и критического восприятия этой чужеземной пищи устранялась той страшной силой гипноза, которая царила в смутные годы, когда мода требовала повиновения духу времени и отказа от всякой попытки национальной критики.
Естественные вожди в саморазвитии каждого народа, интеллигентные его слои, ученые, представители кафедр, литературы и печати давно изменили своему естественному назначению помочь народу разобраться, установив приемы критического отношения к этой вредной лавине, с точки зрения русских нужд и собственной жизни страны. Они изменили, выдав народ головою осаждавшему гипнозу, и сами стали во главе смуты.
Этим предопределена была та изумительная бесполезность, которая охарактеризовала все это движение и создала, можно сказать, беспримерное в истории явление. Как в пушкинской сказке о рыбаке и золотой рыбке, русское «освободительное движение» представило собою нечто вроде страстного полета к неведомым судьбам, с злобным презрением ко всем по пути попадавшимся дарам и улучшениям: хата превращается в дом, дом в дворец, требуется золото, блеск власти без конца… и все кончается «разбитым корытом».
Оно и естественно. Раз в корне движения была измена вождей своей натуральной обязанности служить реальным и национальным целям, выдвигаемым из самой жизни собственного народа, — другого исхода быть не могло. Все реальное и русское было заранее отождествляемо с теми полицейскими препонами, благодаря коим долго не давался общий доступ к обетованной земле утопий и социалистических идей, которые одни только и могли представлять собой страстно желанный рай. Препоны пали. Долой отождествляемые с ними все веления русской жизни… и готов, вылитый словно из стали, неживой, весь стремящийся к грезам— всечеловек. Впереди — воздушная «утопия» или… сумасшедший дом.
III
Плодом пережитой эпохи не могла не установиться в значительной части нашего общества такая идея: государство дошло там до абсолютного совершенства начал и форм, которые надо оттуда пересадить как можно скорее к нам, вырвав с корнем предварительно всю сорную траву, то есть убогие русские учреждения.
Пробовать соединение заграничных прививок с русской флорой — бесполезно. Раз все русское настолько плохо и гнило, что нужно его вытравить, чего же тут мешкать и соединять? Коль рубить, так рубить, и непременно с плеча.
Эта постановка должна была касаться прежде всего основной идеи суверенитета. Не допускалось и мысли о том, чтобы русская действительность могла использовать некоторые новшества Запада, не переходя, так сказать, радикально в другую политическую веру и не принимая целиком то здание понятий народоправства («народного суверенитета»), которое теоретиками стран, переживших несколько революций, полагается в основание их республиканских учреждений, и если в ряде полумонархических стран основы те же, что и в республиканских странах, то это принципиальное подгнивание монархического начала считалось обязательным образцом и для перестроения России на новый лад.
Под влиянием этих идей у нас довольно распространенным оказывается теперь воззрение, что новые наши государственные учреждения логически вытекают из идеи народоправства, то есть принимается на веру (а критически мыслить наша публика не любит), будто в корне изменилась в России самая природа суверенитета. Перед тем как доказать ложность этого мнения (неоднократно приводившегося в речах думских ораторов, — как будто бесспорная истина), я считаю необходимым пересмотреть те идейные основания, которые представляет понятие «народоправства» в западной жизни. Из этого опыта мы убедимся, что и там эта идея, как односторонняя, является вовсе не столь бесспорным основанием государственного права, как полагают некоторые правоверные писатели-демократы. А затем, определив, несомненно, односторонние увлечения этой идеей в области государствоведения, мы перейдем к критике ее пригодности в построениях русского государственного права.
IV
Выяснение основных принципов в данном вопросе имеет громадное практическое значение. Всюду, куда ни проникало начало самостоятельного и общего народовластия, оно рано или поздно давало себя знать как сила совершенно необоримая, подобно давлению воды и воздействию теплорода и холода в их влиянии на структуру земной коры. Принцип общего народовластия, прежде всего, идет к собственному самоочищению, к абсолютному своему выражению, которое достигается в такой формуле:
«Верховная власть (суверенитет) заключается в массе населения, и нигде вне этой общей массе не может и не должна быть сосредоточиваема».
Раз принцип достиг такой ясности в его восприятии общественным мнением какой-либо страны, он уже неминуемо притягивает к себе все существующие там учреждения и переделывает их по-своему.
А. Прежде всего, обнаруживается логическая несовместимость принципа общего народовластия с монархической преемственностью престола; затем — с неограниченностью монархического начала, безразлично — будет ли эта неограниченность по типу римского цезаризма или в духе нашего исторического самодержавия, как его разъяснили славянофилы.
Совместимо ли народовластие с монархизмом, отказавшимся от неограниченной власти Монарха? Это вопрос существенный в том отношении, что в случае отрицательного ответа мы должны уже выкинуть из числа существенных препятствий к развитию абсолютного народовластия даже признак «неограниченности» монархии, так как окажется, что не тот или иной вид, а всякий вид монархии является противоречием народовластию.
Да оно так и есть. Теоретики и покорные слуги народовластия этого и не отрицают и склонны смотреть на существо конституционного монархизма как на случайное, но нелогическое совмещение совершенно непримиримых, по внутреннему их значению, исторических сил, от коих естественно следует ждать неминуемой коллизии1.
Б. Вторым неминуемым последствием торжества идеи народовластия является введение всеобщего права голосования. Можно поэтому сказать, что кадетская партия, когда упорно проводила так называемую «четыреххвостку» («всеобщее, прямое, равное и тайное право голосования»), тем самым являла себя весьма последовательной исполнительницей программы полного народовластия как конечной цели движения; но, несомненно, тем самым ее действия отнимали у этой партии всякое право утверждать, будто ее цель не республиканское, а монархическое (конституционное) правление.
Самое право представительства, организованное в силу общего начала народовластия, устраняет, безусловно, ту сторону этого политического дела, которая представляется наиболее нужною и желательною для водворения прочности, стройности и спокойствия в жизни государств. Я разумею представительство реальных интересов бытовых групп населения. Другими словами, именно то, что наиболее симпатично в представительных учреждениях, то, что старые народные установления прежних веков (до французской революции) организовали с такою яркостью и жизненностью; представительство реально существующих юридических лиц, городов, местечек, графств или иных земских единиц, корпораций, церквей и обществ — все это пошло насмарку, коль скоро обрисовались логические последствия и выводы абстрактного начала народовластия, в силу коего: выбирает округ лишь как территориальная дробь целой страны, но уполномочие, через окружную урну, дает избирателю вся нация, так как она есть верховный властелин.
Логические последствия общего начала идут, строго говоря, гораздо дальше.
В наиболее резкой и последовательной форме мы находим провозглашение идеи народного суверенитета и вытекающего из него всеобщего права голосования у революционных писателей: Руссо и Робеспьера. С их точки зрения, все граждане составляют верховного властелина страны, а потому право голосования, выбора и избираемости принадлежит решительно всем индивидам в населении, без изъятия. В стомиллионном народе каждый житель содержит в себе стомиллионную долю верховной власти2.
С этой точки зрения нет основания отрицать это право у женщин, какие бы соображения социальной целесообразности ни говорили в пользу такого ограничения; нет основания установлять ограничения по возрасту граждан, коль скоро они достигли малейшей степени разумления (например, с 12 лет); нельзя настаивать на требовании срока определенной их оседлости; нельзя исключать от голосования арестантов и каторжников; не представляется возможности исключать лиц, состоящих на действительной службе в войсках, в полиции и т.п. Словом, получается, как логический вывод, целый ряд положений, могущих оказаться чрезвычайно вредными для организации самой системы государственного представительства.
Новейшие конституционалисты стараются маскировать эти вредные стороны, прибегая к провозглашению того начала, что политическое голосование должно отвечать высшей социальной пользе и быть организовано как социальная функция, а не как индивидуальное право каждого гражданина3.
Но такое построение содержит в себе хотя и весьма здравое начало, однако совершенно противоположное исходному принципу народовластия. Тут внутреннее противоречие. Логическая последовательность, несомненно, на стороне революционных теоретиков XVIII столетия, а не в измышлениях их позднейших истолкователей и последователей.
В. Третьим последствием провозглашения принципа народовластия является присвоение народным представителям права решать судьбу государства именем самого народа. Эта власть, преимущественно касаясь законодательства, постепенно распространяется на самое управление и неудержимо превращается в произвольное и безответственное проявление воли, стоящей выше законов и легко переходящей в тиранию, против которой труднее всего найти какую-либо гарантию разумной свободы. Спастись от произвола чиновников или придворных временщиков посредством усиления правомерности в государственном устройстве и расширения судебного вмешательства сравнительно легче, нежели найти убежище от разнузданной и всесильной демагогии. Высшее выражение этой зависимости является в виде подчиненности всех властей, с кабинетом во главе, уже не воле Монарха, а палате народных представителей, с организацией той зыбкой системы, которая именуется парламентаризмом в тесном смысле. Установляется зависимость от партий, берущих верх в палате путем голосования, в котором нередко преобладают случайные течения.
Нет более ложного начала, как преклонение перед решением большинства. Уже представительство, вместо непосредственного участия всех граждан, содержит в себе фикцию, легко подменивающую волю народа — волею его представителей. Но затем уже применение начала большинства в дальнейших действиях этих представителей отдает нередко судьбу всей страны в руки лиц, представляющих из себя ловко организованное меньшинство в стране. Образуется особый класс людей, в среде которых культивируется политиканство, людей праздных, с низменными традициями; людей, оторванных от производительного труда и утративших всякое представление о высшем идеале служения благу государства и народа. Усиляется в этой среде главным образом одно качество: ловкость в одержании верха и проведение своих людей посредством самого механизма политического голосования. Как бы ни устраивалась система выборов, народная масса всегда участвует лишь в слабой доле в голосовании. Это доказано статистикой во всех странах. Этим противоречием между условиями полезной трудовой деятельности и заботой избирательной агитации неминуемо пользуются политиканы. Они всегда берут верх, рано или поздно; тем более что самый факт отрывания обывателей от полезной их деятельности на долгий промежуток времени для участия в парламентских легислатурах клонится к превращению тружеников в лодырей и говорунов. В этой стороне дела заключается трудно предотвратимое явление, сводящееся к полному подчинению трудящихся и положительных элементов населения вредному классу профессиональных политиканов.
V
Выяснив те последствия, к которым приводит в жизни государства начало суверенитета народной массы, мы перейдем теперь к рассмотрению вопроса о происхождении самой идеи народовластия.
Необходимо прежде всего установить, откуда и как сложилось это понятие, насколько оно выдерживает теоретическую критику его разумности и насколько серьезно и неопровержимо довольно распространенное мнение, будто эта идея солидарна и неразрывна с прогрессом и развитием государственности, независимо от условий времени и пространства.
Затем придется приступить к проверке применимости этой идеи к историческому развитию русской государственности.
Корни идеи народовластия весьма древни. Есть несомненная преемственная связь между так называемыми «монархомахами», то есть противниками монархизма во Франции, в XV и XVI столетиях4 и республиканскими традициями классической древности. Эта преемственная связь заметна через духовных писателей средних веков. Св. Фома Аквинат (1225–1274) проводит в своем сочинении «De regimine principum»5 ту мысль, что «государственная и правительственная власть существует только ради пользы всех членов, составляющих нацию» (Esmein. 17 g.). Республиканская традиция Древнего Рима не умирала ни в городских народоправствах средневековой Италии, ни в правах Южной Франции, где живой классицизм противился всесокрушающей силе времени и отстаивался народными нравами. Французский богослов Герсон (1363–1429) использовал эти антимонархические идеи против власти папы в своем сочинении «De poteatate ecclesiastica»6 и возымел значительное влияние на Констанцском церковном соборе (1414–1418), коим завершается история папской схизмы («Hist. Gener.» de Laavisse et Ramband. Т. III. С. 325).
Надо полагать, что государственные воззрения древнеклассических республик проникали в средневековую литературу благодаря изучению древних классиков в монастырях.
VI
Был в идейном мире Рима особый элемент, который уже начинает обособляться у юристов классического периода. О нем очень отчетливо говорит римский юрист Гай, преподававший римское право в Малой Азии в царствование Адриана, то есть за четыре века до Юстиниана (II век по Р.Х.). Этот элемент есть учение о существовании естественного права, установление первых оснований коего восходит еще раньше — к философии Древней Греции7.
По основной мысли этого учения, есть область обязательных правил, которая не зависит от положительных установлений отдельных законодательств и вытекает из велений природы и воли Божества. Этими правилами регулируются действия и инстинкты, которые присущи всем людям и даже всем живым существам, вне человеческого рода. Прямой путь к уразумению начал этого естественного права, стоящего вне человеческих законов, есть разум и исследование законов чистого разума.
У Цицерона естественное право отождествлялось с учением о нравственности. Переходя из древности в Средние века и в эпоху Возрождения, это учение получает сильную богословскую окраску, хотя наряду с разработкой этих понятий у богословов — Soto (1494–1560), Molina (1535–1601), Suarez (1548–1617) — идет непрерывно и разработка их юристами в связи с римским правом8.
Впрочем, не раньше XVII столетия суждено было этому учению в разработке его у юристов дойти до апогея своего блеска и силы с появлением группы знаменитых писателей в Голландии, Германии, Франции и Англии, получивших общее название школы естественного права. Это направление сыграло громадную роль в развитии государственных понятий, и к этой колыбели сводятся родословные самых противоположных школ — как революционных учений, так и самого строгого монархизма. Поэтому мы должны сказать об этой школе несколько слов.
Главным писателем этой школы принято считать голландца Гуго Гроция, издавшего в 1625 году известное сочинение «О праве войны и мира» («De jure belli et pacis»). Несмотря на тяжеловесность формы изложения, этот мыслитель считается могучим умом, и его влияние простирается далеко за пределы его века в истории развития политических учений. Гроций воспринял от испанского иезуита XVI столетия Суареца идею о первоначальном «социальном договоре», будто заключенном людьми для выхода из быта естественного права. От Гроция до Руссо это объяснение первоначального возникновения общественности считается в науке неоспоримым. Пуфендорф исходит из того же предположения (1673 г.); Вольф подробно развивает теорию «общественного договора» (1748 г.); Ваттель проводит эти мысли во Франции («Droit des gens on principes de la loi naturelle» — 1758). Наконец, английские философы Локк (1632–1704) и Гоббс (1588–1679) развивают то же самое учение — хотя в выводах приходят к обратным заключениям; Локк приходит к народовластию, а Гоббс — к абсолютной монархии.
По представлениям знаменитой школы естественного права, человечество, прежде всего, пребывало в «естественном» состоянии, вне всяких правовых условностей и без всякого общественного строя. Каждый человек был совершенно независим и ничьей воле не подчинялся. Здесь мы находим как бы отдаленное эхо древних легенд о «золотом веке» и библейской традиции и «первобытном житье в раю при полной первородной непорочности». В учении школы естественного права это предположение считалось уже исходным юридическим догматом, причем считалось несомненным, что люди в этом счастливом и непринужденном состоянии, предшествовавшем общественности и государственности, не имели между собою другого связующего начала, кроме «естественного права», вытекающего из разума и установленного самим Богом.
Затем выставлялось второе предположение: люди добровольно отказались от своей неограниченной свободы и согласились создать, путем общественного договора, высшую власть, которой поручено управление гражданским обществом. Обязательность возникших таким образом законных установлений основывалась исключительно на том, что свободные люди добровольно согласились подчиниться возникшей из договора общественной власти. Наиболее последовательные писатели, как Локк, Ваттель, Руссо, заходили в этом отношении так далеко, что признавали для каждого новорожденного необязательность подчинения общественному и государственному строю до тех пор, пока такой новый член общества сам не присоединится к новому существующему общественному договору, с наступлением совершеннолетия. Правда, они допускали, что присоединение к этому договору совершалось молчаливым согласием, в силу факта сожительства после совершеннолетия, среди организованного общественного строя (Esmein. С. 167).
VII
Спрашивается, каким путем развился, исходя из этих общих начальных положений, тот ход мышления, который послужил философским фундаментом для французской революции 1789 года?
Это произошло следующим образом. Раз всякая общественная и государственная власть только потому и постольку существует, поскольку она вытекает из свободного договора всех граждан, отсюда следует, что все люди сами по себе равноправны и свободны от рождения и что они все, вместе взятые, обладают верховною властью. В дополнение к этим догмам Локк вывел и основные права, присущие человеческой личности в силу естественного права; эти права настолько священны и незыблемы в своей неотчуждаемости, что они не отменяются и не могут быть отменяемы общественным договором.
Это учение перешло затем в сочинения Руссо, который в своем «Contrat Social» дал ту книгу, с которой, говорят, Робеспьер не расставался и из которой революционные ораторы черпали потом, как из Евангелия.
При критическом исследовании идейного фундамента революции нельзя, прежде всего, не обратить внимания на то, что из тех же самых посылок равные по силе ума философы выводили совершенно противоположные учения. У Гоббса мы видим, что разделительной гранью является неодинаковый взгляд на неотчуждаемость первоначальных прав. Гоббс говорил, что с возникновением социального договора «все права без исключения переданы государству, которое является неограниченным. При этом монархия является высшим типом государства, так как она дает высшую степень безопасности граждан, то есть то, из-за чего возник социальный договор. Для осуществления этой охраны верховная власть обладает всемогуществом; гражданин по отношению к верховной власти является вполне бесправным; а представитель верховной власти, как источник законов, стоит выше их и ответствует только перед Богом»9.
Уже сама по себе такая очевидная возможность выводить совершенно противоположные учения из одних и тех же посылок должна была бы навести на мысль о ненадежности чисто умозрительных решений в таких житейских и государственных вопросах, где громадный вес должны иметь другие, более реальные факты в жизни народов.
Между тем не так поступали в разное время даже выдающиеся писатели, увлекаясь той страстностью, которая почти всегда развивается вокруг политических споров. Они нередко искали в личных побуждениях мыслителей причину их разных направлений. Руссо упрекал Гроция в том, будто, «найдя убежище во Франции и желая подслужиться Людовику XIII, коему посвятил книгу свою, он ничем не брезгует, дабы лишить народы присвоенных им прав, облекая таковыми царей». С удивлением мы читаем у видного парижского профессора Эсмэна, нашего современника, повторение такого рассуждения Руссо, которое по меньшей мере несправедливо, применяя то же заподозревание в нечистых мотивах — к другим мыслителям, провинившимся перед нерушимой догматикой «освободительного» направления. «Пуфендорф, — говорит господин Эсмэн, — воодушевлен теми же стремлениями; Гоббс, как известно, присоединился к Карлу I и стал защищать монархический принцип; Вольф мог без всякого опасения посвятить свою книгу Фридриху, королю Прусскому. Один только Локк разумно отдал свои принципы служению свободе». Между тем такое пристрастное и одностороннее освещение побудительных стимулов этих писателей-монархистов блестяще опровергается тут же приведенными цитатами из книги Мабли («Droits et devoir du citoyen»), в которой революционный писатель признает, что «Гуго Гроций, родившись в свободной республике», должен был, однако, «потерпеть изгнание» и нашел убежище у «королевы Христины шведской», а затем возымел «фантазию посвятить свою книгу французскому королю Людовику XIII». Далее «Гоббс мог бы похитить у Локка славу первого изложения общественных начал, но, будучи привержен, в силу событий или из корысти, к несчастной партии (Карл I), он предпочел употребить свой могучий гений на изложение системы, вредной для человечества10.
Как все это знакомо! И как повторяются в разные эпохи те же жалкие обвинения своих политических противников в недобросовестности побуждений, когда невольно тот же клевещущий автор обнаруживает все данные к обратному мнению. Самый могучий ум, Гуго Гроций, был раздавлен в среде, где «свобода» провозглашена как высшее начало; он беглецом находит убежище у выдающейся женщины начала XVII века, шведской королевы Христины, и возымел «фантазию» пойти к Людовику XIII; это, изволите ли видеть, совершается из низменных побуждений… Забывают, что низменные натуры прежде всего подлаживаются к торжествующим силам в их же среде и не уходят вдаль за поисками утешения, потерпев изгнание. Жалкие слова: «свобода», «тирания» ит.п. Не в силах прикрыть вечно единой сути вещей, рабские натуры пресмыкаются и гибко приспособляются к торжествующему режиму, какой бы на нем ни был внешний ярлык!..
Но перл этого рода упреков заключается в уверении, будто Гоббс «из корысти» прилепился к проигранному делу и несчастной судьбе Карла I, которому отрубили голову! Это уже бесподобно. Дальше такой якобинской софистики идти некуда, и революционная журналистика наших дней может по праву гордиться аббатом Мабли как своим первообразом.
VIII
Ипполит Тэн посвятил якобинскому складу и образу мыслей, основанному на теориях об общественном договоре, несколько страниц, удивительных по своей меткости, глубине и силе.
«С самого начала, — говорит он (в пятом томе своего знаменитого творения «О Происхождении современной Франции»), — была найдена такая теория, которая могла оправдать всякое преступление народной массы; эта теория была выращена и воспитана долгой работой предшествовавшей философии; это было нечто вроде живого корня, на котором выросло новое конституционное дерево: это догмат народовластия.
Принятый в буквальном смысле, он означает, что правительство имеет меньше значения, нежели приказчик; это просто слуга народа. Мы его учредили, и мы над ним хозяева. Между ним и нами нет такого вечного и прочного договора, которого нельзя было бы считать нарушенным, по взаимному согласию или вследствие неверности одной из сторон.
Мы ничем перед ним не обязаны, а правительство во всем перед нами обязано. По первоначальному и неотчуждаемому основанию, право на государство принадлежит нам, и если мы поручаем власть правительству, то лишь с правом его журить и, в случае надобности, прогнать»11.
Далее осуждает это учение в следующих словах:
«Можно еще понять, что народ, обремененный налогами, нищий, голодный, распропагандированный витиями и софистами, — мог приветствовать и принять такое учение: в чрезмерном страдании человек прибегает к первому попавшемуся орудию, и для угнетенного — всякое учение правдиво, коль скоро оно помогает отделаться от угнетателя. Но чтобы политические деятели и законодатели, государственные люди, министры и главы правительства могли привязаться к подобной теории и прилепиться к ней все теснее по мере того как она становилась более разрушительною, и затем ежегодно, в течение трех лет видели гибель от нее же общественного строя и не сумели признать ее виновницей; чтобы на этих фразах о всеобщей свободе они бы согласились учредить деспотизм, достойный Дагомеи, судилище, подобное инквизиции, и человеческие жертвоприношения, как в древней Мексике; чтобы они среди своих тюрем и казней не переставали верить в свою правоту и даже во время собственного падения и гибели на себя самих смотрели как на мучеников — это, конечно, странно: такое затмение ума и такой избыток гордости редко могут случиться, и для того чтобы подобное дело могло совершиться, нужно было такое стечение обстоятельств, которое только раз и могло случиться»12.
Как известно, знаменитый французский историк обличает в якобинском духе и в фальшивых государственных теориях этого времени источник бед современной Франции. В его глазах учение было ложно, а в осуществлении революционной драмы сыграли важную роль психозы и кровавый бред сумасшедших, действующий заразительно на народную массу.
IX
Посмотрим теперь, что уцелело из философских теорий того времени в основаниях современного конституционализма.
Положения философов XVII и XVIII столетий были построены, так сказать, на воздухе, будучи умозрительными, то есть исключительными выдумками «разума». Мыслители мало заботились о том, что было на самом деле в древнейшее время; для них вполне достаточно было рассуждать так: «необходимо предположить заключение, добровольным согласием людей, первоначального договора, для того чтобы объяснить переход от естественного быта к государственному».
Разумеется, такое учение должно было потерять всякое влияние с того времени, когда постепенно водворился опытный метод исследования общественных явлений, с начала XIX века, в виде воцарения исторической школы, а затем позже — с развитием позитивной философии.
Однако, не дожидаясь такого поворота, уже в некоторых умах зарождалась с самого начала справедливая тревога: а что, если окажется, что ничего подобного «категорическому велению разума» на самом деле не было?
Локк сознавал эту слабую сторону и пытался ее защитить тем, что, мол, «исторические документы возникли после социального договора, а потому история не могла сохранить письменных свидетельств о естественном состоянии». В своих сочинениях — «Essay on civil Government» — Локк идет далее и пытается доказать предвзятое положение ссылкой на рассказы путешественников о дикарях Бразилии и Флориды, «договором избирающих своих вождей»13.
Очень характерна эта первая попытка английского положительного ума еще в XVII столетии пойти по тому пути, по которому пойдет наука после него, но зато— именно по тому пути, коим должна обнаружиться полная несостоятельность всех исходных положений его школы.
Теория социального договора ныне почти совершенно утратила всякое значение. Однако характерно, что плоды этого учения глубоко внедрились в систему государственных учреждений, и в свою очередь они же воздействовали на людей, требуя для своей защиты и оправдания новых теорий, хотя и не вытекающих из прежних философских заблуждений, однако родственных по духу системе социального договора. Уже Руссо говорил, что «положения, составляющие суть этого договора, быть может — никогда не были формально выражены, но что они всюду признаются как бы молчаливым согласием»14.
Блекстон, комментатор английских законов, в конце XVIII века стоит на той же почве. Таким образом, среди последователей самого учения о социальном договоре обрисовывалась мысль, что самый этот договор никогда не существовал, но что это вовсе не помеха их умозрениям, так как все должно совершаться и происходить так, как будто такой договор был в действительности.
Такая формулировка уже близко подходит к тому типу мышления, который принято клеймить названием софизма. К сожалению, именно в этом виде плоды французской революционной философии дожили до наших дней; именно в этом виде они достигли силы и значения дрожжей, от которых впадают в брожение главным образом те девственные и примитивные народные протоплазмы, которые до прикосновения с бродильными веществами покоились в сонливом и безмятежном варварстве. Так, говорят, первое появление сифилиса в крови еще не тронутого человечества, в XVI веке, привело к таким бурным и разрушительным явлениям, которые сейчас в нас — потомках этих людей— более немыслимы.
Не кроется ли именно в этом причина бурной бесплодности нашей русской революции? Первое прикосновение к девственной душе варвара тех давно выдохшихся дрожжей, которые уже не действуют на изверившиеся умы умудренных рас европейского заката!..
X
Однако проследим дальше влияние того же учения в новейшей его формулировке у признанного защитника этой идеологии парижского профессора Эсмэна.
«Раз фикция социального договора устранена, — говорит он (в назв. сочин. С. 178), — спрашивается, на чем мы должны обосновать понятие народовластия? Таких оснований два, и они представляются лишь двумя оттенками одной основной истины.
Первое основание заключается в здравом смысле, в очевидной мысли, долго казавшейся неоспоримой в умах людей, именно: государственная власть существует только для пользы всех членов нации. Отсюда получается вывод, с которым трудно спорить, что установленное в пользу всех должно быть управляемо всеми; допускается при этом оговорка в пользу закона большинства»15.
«Вторым основанием является положительный факт: каков бы ни был источник верховной власти у различных народов, власть существует и может проявляться лишь постольку, поскольку граждане или подданные этой власти ей подчиняются»16.
При этом приводится ссылка на Токвиля в доказательство того, что даже власть русского царя (которую писатели прогрессивного направления во Франции без обиняков отождествляют с тиранией) все же основана на согласии и сочувствии русской нации.
«А раз общественное мнение и согласие граждан подчиняться власти есть главное основание суверенитета, то лучше, —говорит Эсмэн, — перенести на самое население те права, которые государь получает только благодаря симпатиям этого населения; так как этим путем совершается гармоничное сочетание власти с ее источником»17.
Глубокий недостаток этой аргументации, в чем она действительно родственна французским идеологам эпохи первой революции, — это ее беспочвенная умозрительность. Нам подносится нечто вроде теоремы, построенной на отвлеченных данных чистого разума, без отношения к какому-либо государству или народу.
То, что бесподобно хорошо в математике, никуда не годится для правильного понимания человеческих учреждений и в особенности для внушения полезных и мудрых действий в практической жизни народов. Посмотрим первую посылку: «Государственная власть существует только для пользы всех членов нации».
Эсмэн совершенно забывает, что эта формула верна только в тесном общении однородного и небольшого государственного тела. Она не может устоять при разнородности и обширности государств, где заметны следы недавних завоеваний или борьба непримиримых по существу антагонизмов. Неужели государственная власть Англии должна безусловно проникнуться велениями индусов или маорийцев в такой же мере, как английским народным гением? Франция должна отказаться от всего, что не отвечает воле ее кабилов в Алжире? Россия не может и не вправе проявлять государственную властную жизнь, не подчинив ее целиком всем велениям 70 «языков» Кавказа или (будем же логичны до конца) всех вымирающих инородцев Восточной Сибири?
Что сказали бы главные государственные творцы в прошлом Франции, если бы им обрезали крылья по рецепту современного парижского профессора? Ришелье не посмел бы подавить междоусобицу, опиравшуюся на англичан в Ля-Рошели; конвент не решился бы укротить Вандею. Да и самое собирание земель и уделов вокруг парижских королей уже было издавна сплошным нарушением основного положения Эсмэна, коим определяется законность государственной власти. О нас, варварах, и говорить нечего. Разве на таких началах мыслимо было бы «собирание земли Русской»? Не говоря даже о выступлении России из строгих пределов урочищ и областей, исключительно заселенных русским племенем. Всякий шаг к образованию обширных государств идет вразрез с формулою господина Эсмэна. И благо был бы с его стороны только упрек: «Не сметь завоевывать слабых народов! Ибо вынувший меч — от меча и погибнет!» Это было бы еще понятно. Но нет, нам, народам — основателям пестрых империй — не упрек бросает господин Эсмэн, а дается закон нашего государственного быта: нет власти, которая не была бы для всех и ради всех. Это неверно, оно опровергается простым воззрением на действительность.
Но допустим первое положение; посмотрим дальше: что говорит теория? Вывод делается следующий: «власть, установленная в пользу всех, должна быть усправляема всеми». (Исключение — закон большинства.)
Этот вывод вдвойне слаб. Он не представляется математически неизбежным даже как отвлеченное рассуждение. Он несостоятелен по указаниям опыта, из коего видно, что перенесение власти самоопределения на опекаемого всецело и всюду зависит от того, кто этот опекаемый, каковы его качества, его зрелость; вообще, этот вопрос исключительно зависит от другого, чисто практического вопроса, который выясняется только из опыта, а именно: что выйдет из передачи власти, лучше или хуже будет заведование?
Это слабый пункт всего построения, даже не говоря о том, что оговорка господина Эсмэна в пользу «закона большинства» окончательно перетасовывает все данные ее проблемы, так как «фикция большинства» осложняет без того шаткую теорию подмененными и вовсе не тождественными величинами.
Второе основание народовластия у господина Эсмэна также призрачно. Он говорит, что «власть существует только в силу сочувствия граждан, а потому они суть ее источник, и закон прямо на них должен построить власть».
Первая ошибка этого рассуждения в том, что здесь смешивается «строительная сила» и понятие «сопротивление материалов». Всякое воздействие встречает в данной среде содействие и отпор. Если последнее сильнее, получается крах и власть рушится. Если получается окончательное уравновешивание сил, это не значит, что все довольны, но лишь то, что «власть имеющие» сумели угадать, что значительнее: содействие или отпор? Всякое содействие есть результат победы одних элементов над другими; а где сейчас победа, там весьма часто — не далее как вчера — была борьба. Вне этих условий нет государственной жизни.
Созидающая сила власти не может быть отождествлена с одним только равновесием борющихся сил, как будто отвечающих на толчок, будящий эти силы извне оных. Государственная власть есть сама сила, вносящая в среду нечто более, нежели каждый обыватель и сумма обывателей вместе взятых. Если бы этого не было, то не было бы никакой надобности делать серьезные затраты на государственный механизм и терпеть тяжесть его прикосновения. В том-то и дело, что государство содержит в себе сумму той энергии или тех интересов, которые присущи всей сумме граждан плюс нечто.
Все разновидности учения народовластия как необходимого элемента государственности вращаются вокруг этой капитальной, непростительной ошибки: в них отрицается именно этот плюс, который составляет главный отличительный признак государственной идеи.
Не мудрено, по этой причине, что практика идеи абсолютного народовластия в обширном государстве приводит к постепенному вымиранию самой идеи государственности. Происходит как бы политический склероз, старческий подмен веществ. Постепенно одни понятия заменяются другими, похожими, но не теми же. Попечение о народном благе заменяется соблюдением своего интереса; гордость Родины — ее комфортом, а потом своим собственным разбогатением; защита Отечества — устроением его путей по линии наименьшего сопротивления; расовое и национальное величие — стремлением заслужить у соседей благоволение за добронравие и филантропические помыслы. И над всем этим хаосом разлагающейся исторической души великих народов парит идеал манящего социализма, в котором не будет никакого плюса к нуждам и желаниям человеческих индивидов, прикованных к своим хлевам и стойлам; но вместе с тем испарится и та лесть, которой пока что, до поры до времени, заманивают этот вожделеющий индивидуализм; добывание и насыщение будет отдано всецело в руки верхнего коллективизма, который поглотит индивида, уступив ему то, о чем вопит его утроба; но идеальный «плюс» исчезнет навсегда. И тогда наступит давно возвышенное Гербертом Спенсером «грядущее рабство».
XI
Те же вопросы, которые так сильно захватывают самую глубь политической жизни всех стран, ставятся в круг русской государственности с более специальным значением, обусловленным нашей действительностью.
Помимо того, что можно было бы назвать мировою стороною в спорном отношении народовластия и монархизма, есть еще такая сторона, которая прямо вытекает из того, как сложилась русская территория, какие силы вели борьбу за Империю, какие цели ставились впереди при главнейших исторических действиях в прошлом и в какой мере русская история повиновалась как бы фатальным и значительным силам тяготения, существовавшим вне самой России; я разумею темное и не разгаданное доселе значение совместного роста и кристаллизации всего славянства, ибо есть, несомненно, такие исторические силы, которые существуют вне каждого племени в отдельности, но которые ведут целое к каким-то будущим и единым судьбам.
Тут четыре фактора, смысл коих должен быть выяснен для того, чтобы мы могли понять значение народовластия и монархизма именно на русской почве.
1. Образование русской территории из разных областей, из коих многие суть или поглощенные нации, или обломки национальных организаций, — вот факт, который надо всегда иметь в виду при определении принципов русской политики. Мы часто слышим якобы научные разглагольствования, которые стремятся к тому, чтобы заставить нас смотреть на нашу страну как на нечто отвлеченное и однородное, долженствующее идти по указке умозрительных рецептов, выработанных вне условий места и пространства. А между тем строгая наука в лице ее лучших и наиболее вдумчивых представителей учит нас как раз обратному. Так, например, известный гейдельбергский профессор государственного права Г.Еллинек, один из самых новейших авторитетов, говорит совершенно определенно следующее: «Ныне считается фундаментальною основою в политике, что следует установлять различие между однородными государствами, в состав которых входит одна только национальность, и составными государствами, составленными из многих народностей»18.
При возникновении тех теорий, на которых французская революция основала свой операционный базис (естественное право и народовластие), даже самые великие умы не подозревали тех элементов, на которых современный мыслитель возводит ныне постройку государственного права. «Монтескье не знал, какое значение имеет национальность в образовании государства, а между тем он поставил себе целью исследование всех элементов государственной жизни; впрочем, есть основание предположить, что он первый стал догадываться о той связи, которая существует между народностью и государственным правом»19.
Затем, при расценке тех данных, по коим определяется единство какой-либо народности, Еллинек не признает решительного значения ни за антропологическим, физическим свойством расы, ни за общностью языка: для него единая народность — это «коллективное сознание»20, «общая ассоциация известных мыслей, воздействие народных представлений, создающих единое национальное сознание»21.
«Народность, — говорит Ренан, — это единая душа; в ней содержится чисто духовный принцип»22.
Производя из этих начал применительные выводы к русской истории, мы найдем следующее.
Принцип народовластия, примененный к русской государственности в разные эпохи развития ее территории, дал бы совершенно разнородные последствия, вызванные как племенным составом населения, так и самою густотою и обширностью территории.
Есть указания на то, что народовластие было способно развить национальную стихию лишь в более отдаленные эпохи, до наступления пестроты нашего населения.
Новгородское «народоправство» отстояло участие русского племени в ганзейской торговле, создало русское коренное население Риги, непрерывно ведущее свою самобытность за семь веков доныне; это народоправство дало мощные колонизационные волны — выезды «ушкуйников» за Урал и северных промышленников, распространившихся по Мурманскому берегу — дальше наших теперешних пределов. Новгородцы владели южным берегом незамерзающего Варангер-фиорда, тогда как Императорская Россия дала себя оттеснить от этого открытого моря. Очевидно, в тех условиях сравнительной малолюдности и безусловной компактности русского племени, в которых находилось новгородское народоправство, оно справлялось с национальными задачами вполне удовлетворительно и, так сказать, стихийно, не прибегая к молоту и могучему прессу монархического начала.
Если бы, однако, задумали применить из теоретической слепоты (которая, к счастью, была чужда нашим московским предкам) отвлеченное начало народовластия к решению судеб нашего государства в те эпохи, когда умножилась его национальная пестрота, то получилась бы изумительная картина. У покоренных казанцев мы бы испросили позволения, на основании «всеобщей прямой, тайной и равной подачи голосов» брать Азов и открывать нашим судам доступ к Черному морю. У присоединенных к нашим владениям финнов разных наименований мы испросили бы милостивого голосования на сооружение флота, одержавшего победу над шведами при Гангуте, а из урны народного голосования в Риге и Ревеле мы ожидали бы себе право бить Фридриха II при Цорндорфе и Кунерсдорфе. А уж, конечно, без благополучного исхода народного голосования польского населения наших западных областей мы бы и не двинулись против Наполеона после 12-го года. Вообще, можно обобщить эти соображения, утверждая, что карта русской Империи не была бы похожа на нынешнюю, если бы принцип народовластия положен был на весы в решительные моменты русской истории, со времени Грозного до наших дней.
XII
2. В связи с значением разнородности наших территориальных элементов представляется рассмотрение внутренней группировки сил, которые вели борьбу за Империю и против нее. В этом и заключается главный пункт во всех принципиальных построениях национализма в наши бурные и мятежные дни.
Историк нашего времени должен будет признать, что смысл происходящих в последние годы действий был именно такого рода, что они прямо вели к ослаблению тех сил, которые исторически сложили Империю, и к усилению тех, которые и в прежние века боролись против возникновения и усиления той же Империи.
Все уступки объяснялись необходимостью улучшения в отношении социальном и юридическом. Социальное улучшение, конечно, сводилось к увеличению равенства и к перемене в размещении ценностей. Юридическая наша переоценка вела к расширению индивидуальной деятельности и к возможно широкому ограждению населения от паразитного высасывания народных соков благодаря бесконтрольности над «сильными мира сего»; панацеей всех зол являлось народное участие в управлении. Представленная в этом виде казовая и теоретическая сторона нашей революции представляла в себе много неотразимо заманчивого, и на эту удочку — социального и юридического перестроения государства после позора Мукдена и Цусимы — сразу пошли общественное настроение и даже власть имущие круги.
Для того чтобы понять, до какой степени суть дела тут была вовсе не в социально-юридическом перестроении страны, а в главной цели, сокрытой до поры до времени фиговым листом, — именно в разрушении Империи, стоит лишь вспомнить удручающую картину, какую представляли Первая и Вторая Думы, при общем рукоплескании и поощрении со стороны левой печати в стране. Благодаря простодушной прямоте одного из кавказских дикарей-депутатов мы очень быстро получили формулу, за которую следовало бы этому прямолинейному восточному человеку принести глубокое русское спасибо вместо того, чтобы на него сердиться. Он сразу дал нам в руки ключ к пониманию всей этой сложной драмы: «Русские патриоты, это у нас — хулиганы. Русский патриотизм — есть хулиганство. Мы так его в Тифлисе и называем». Вот это, по крайней мере, ясно и недвусмысленно. Такие изречения помогают понимать истинную подкладку этого бурного натиска и осады власти. Между тем события шли своим чередом, и влиятельные круги на вершинах русского общества, по непониманию ими истории и даже, скажу больше, по хронологическому затемнению в рядах петербургских правящих слоев того сильного исторического чувства, которое было еще живо в московском государстве,— выдали не только страну, но и самих себя той осаждающей коалиции антиимперских, нерусских сил, которые прежде всего надлежало подавить и обуздать, даже организуя народное представительство; причем надлежало эту коалицию обуздать именно для того, чтобы приступить к социальным и юридическим реформам, для которых выше всего и прежде всего необходимо самое существование Империи.
3. Изучая ход нашей истории в наиболее драматические моменты ее развития, мы видим, что появляется в некоторых пунктах совершенно специальное осложнение целей, которыми задавались наши правители и государи, отчасти сами сознавая оные, а отчасти по непременному ходу событий. Когда эти цели были ложны, они сами по себе впоследствии следов в истории не оставляли или же оставляли раны, которые медленно потом залечивались. Наше участие в Семилетней войне, альпийский поход Суворова, заключение Священного союза, венгерский поход 1849 года — все это такие моменты нашей истории, которые очень трудно связать с каким-либо осмысленным пониманием целей нашей государственности. Напротив, есть другие действия, которые, по значению преследуемой цели, были не только неизбежны, но, раз осуществленные, должны были оставить глубокий след на целые поколения; так что игнорирование этих данных истории в задачах нашей практической политики было бы гибельно, а вопрос о правильном отношении к этим моментам нельзя ставить в зависимость от необдуманного голосования случайным подбором народного представительства.
Возьмем для примера польский вопрос.
Для деятеля или писателя, основывающего, подобно мне, самый фундамент русского патриотизма на славянском самосознании, нет более болезненного, более щемящего душу вопроса нашей государственной действительности, нежели эта вековая распря двух славянских братьев, которую Пушкин так метко охарактеризовал в следующих стихах:
…Это спор славян между собою,
Домашний, старый спор,
уж взвешенный судьбою…
…Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются
в русском море?
Оно ль иссякнет? — вот вопрос.
Нельзя понять всей глубины русско-польской драмы без любви. Вот почему мы ее не поймем, пока будем исключительно вращаться в тех естественно ощущаемых нами чувствах негодования и недоверия, которые грешный перед нашею государственностью поляк возбуждает в русском обществе своими глубоко-захватывающими действиями, клонящимися к постепенному внутреннему расшатыванию нашей Империи, так сказать, мирными средствами. Это явление настолько общеизвестное, что я о нем распространяться здесь не намерен.
Тем не менее, как бы это явление ни было реально и какого бы клейма оно ни заслуживало, однако я именно на обратном чувстве хочу сосредоточить ваше внимание; я разумею чувство племенной любви. Поверьте, что между народами психология таинственной силы любви та же самая, как в отдельном человеке. Виктор Гюго где-то говорит, что эта сила цветет неудержимо, как цепкое растение в утесах и даже на гробовых плитах.
Нам, русским, этот мир понятнее и ближе, нежели полякам, потому именно, что мы — победители, мы лишили их когда-то славной у них государственности, мы их втянули в мировое шествие нашего «двуглавого орла», которому они верить не хотят, вспоминая со вздохом свой «белый орел». Поэтому естественно, что если у обоих народов есть что прощать другому, то дать волю славянскому сердцу и полюбить может только русский, а поляк может лишь от него научиться этому чувству.
Вот именно став на эту точку зрения, впервые открывается нам то, что я назвал «драматическим элементом» в польском вопросе. Ибо какая же в самом деле драма там, где существует лишь простое, элементарное чувство злобы? Нет, драма есть неустранимое противоречие, навеянное роком, и она там именно встает во весь рост, где рождается противоречие грезы и действительности.
Дать полякам то, к чему естественно стремится их народный гений, именно самостоятельную государственность, — мы не можем, каковы бы ни были те братские чувства, которые должны у нас развиться с укреплением славянского идеала. А эта невозможность основана на понимании тех исторических причин, которые породили польский вопрос.
Это сводится к следующей стихийной постановке этого вопроса:
1) поглощение Россиею Польши или Польшею России (безразлично) было «conditio sine qua non», то есть неизбежной необходимостью для устояния обоих народов (русских и поляков) перед пожирающей волной германизма;
2) присоединение Польши было в XVIII столетии необходимою ступенью для достижения Россиею возможности бороться с Турцией и для решения восточного вопроса.
Ясно, что всякое непосредственное призвание в наши дни силы народовластия, при участии польских голосов, к переделке установившегося здесь равновесия будет равносильно непосредственному стремлению к уничтожению одного из коренных устоев Русской Империи, раз указанные исторические силы и теперь налицо. Германское давление на славянский мир значительно усилилось и организовалось со времени Екатерины; а задача восточного вопроса, как известно, осложнилась, но не получила своего разрешения, несмотря на десять войн с Империею османов.
Вот коренная причина, почему для нас, на ближайшее поколение, польский вопрос содержит в себе очень опасные элементы. Это пороховой погреб, к которому нельзя подпускать фитиль так называемого «народовластия».
XIII
4. Мы подходим через освещение польского вопроса к тому своеобразному элементу русской истории, которым Россия отличается от других государств. Я разумею — осуществление, через формы нашей истории, не одной только русской судьбы, но и судьбы всего славянского мира.
И в этом своеобразном процессе развития весьма важно, чтобы расслабляющее начало народовластия отнюдь не заслоняло собою того царственного образа, который наше племя носит в глубине славянских сердец, хотя бы даже в виде совершенно неосуществимой грезы, когда за очертаниями «русского» Царя предчувствуется облик «Славянского Императора».
Сейчас в нашем общественном сознании где-то глубоко и затаенно дремлет сознание этой стороны нашей истории.
Но что пока дремлет, все же проснется, когда придет положенный час. Если вы хотите прислушаться к таинственному шелесту этого роста, вы ныне должны выйти из пределов нашего сонного царства. Там, в Чехии, или же у берегов Адриатики, там, на берегах Дуная, на гребнях Балкан или у подножия гордого Пелистера, вы почувствуете подавляющую, огненную силу этого непонятного здесь, на севере, явления.
Недаром оно было указано впервые нашим предкам еще при царе Алексее Михайловиче гениальным провозвестником славянской идеи — Юрием Крижаничем. Тогда его сослали в Тобольск. Ныне Петербург Крижанича не сослал бы; но он его «облепил бы»; как тигра в индийских лесах ловят смолою — и каждое его движение все более приводит к его конечному обессилению, так и борцов типа Крижанича у нас на берегах Невы, в наш расслабленный век, подвергают постепенному и незаметному «облеплению».
Но семена, брошенные Крижаничем в почву, не могли погибнуть. Почти три века прошло после его речей; между тем стала обрисовываться их вещая правда. Славянский мир живет и развивается как целое, и в этой жизни целого, идущего своими путями к какому-то высшему виду культурного объединения, Россия обрисовывается как необходимое, собирающее ядро. Это предуказывается, помимо всего прочего, уже тем обстоятельством, что 72% всех славян в мире живет сейчас под русским скипетром23.
Конечное значение скрытых сил истории — дело темное и неразгаданное. Но несомненно то, что раз смысл истории России как мировой державы не может быть понят без обнаружения тех внутренних динамических токов, которые создают историю всего славянства, — в таком случае и в вопросе о развитии русских государственных учреждений наиболее реальными и жизненными будут те учреждения, которые согласны с ростом славянской силы.
В этом отношении не может быть сомнения в том, что отвлеченное народовластие есть начало, прямо разрушающее в России всякое стремление к заветам общеславянской истории; да этого и не отрицают главари так называемого «освободительного движения». Они всегда относились и относятся враждебно к самой идее славянофильства.
Это отнюдь не мешает тому, что развитие народного участия в государственном управлении (например, хотя бы в путях окрепшей Государственной Думы) может со временем значительно усилить в России идею славянской взаимности. В этой могучей идее есть, несомненно, глубоко народный дух и характер. Очень многое вредило ее развитию, в особенности в «петербургский период» нашей истории, в силу недоверия к народной стихии тех «сильных мира сего», которые заграждали собою путь к славянскому Царю; мы знаем примеры, когда наши вельможи, будучи чужды национальному делу по крови и языку, всячески употребляли свое влияние к ослаблению в русских делах славянской народной стихии. Это может, несомненно, улучшиться в будущем, при развитии нашего народно-государственного правления, но оно не должно быть основано на понятии народного суверенитета, ибо по заветам русской и славянской истории нам нужно, нам необходимо иметь во главе государства нерушимую Царскую Волю.
1 Ср.: Esmein. Elements du droit constitutionuel. Paris, 1903. C. 195.
2 Ibid. С. 210 и 212.
3 Ibid. С. 218.
4 Укажем на Philippe Pot, произнесшего знаменитую речь на собрании земских чинов Франции в 1484 году; также на юриста из гугенотов — Hotman, или Hotomanus (1521–1590), изложившего в своей «Francogallia» мысли, в пользу признания идеи народовластия в основании французских земских соборов.
5 По крайней мере, это сочинение приписывается Фоме Аквинату. В другом сочинении («Summa Theologica») тот же автор проводит даже идею всеобщего народного голосования и участия всего населения в отправлении верховной власти.
6 «Собор выше папы, — говорил Герсон, — он вправе ограничивать папскую власть». (Ср.: Словарь Брокгауза–Ефрона. Т. 16. С. 554).
7 Ср. Bergbohm. Jurisprudenz. U.Rechtsphilosophie. I. С. 151 и сл.; Gierke. «Johaannes Althusius und die Entwickelung der naturrechtlichen Staatstheorien». Также: Esmein. С. 163.
8 Ср.: Bodin. «Les six livres de la Republijue», в которых он говорит «о пределах, поставленных государям от законов природы, созданных Богом». (Бодэн жил с 1530 до 1596.)
9 Ср.: Слов. Брокгауза–Ефрона. Т. 17. С. 4.
10 Ср.: Esmein. С. 169.
11 La Revolution. La conquete jacobine. С. 4 и 5.
12 Там же. С. 11 и 12.
13 Esmein. С. 176.
14 Ibid. С. 176.
15 Ibid. С. 179.
16 Ibid. С. 185.
17 Вольный перевод и сокращения. Esmein. С. 187.
18 «Право современного государства»; см. франц. изд. Fardis. «L’Etat moderne et son droit» (1904. С. 204).
19 Там же. С. 209.
20 Там же. С. 208.
21 Там же. С. 205.
22 Там же. С. 207.
23 См. в книге профессора Т.Д. Флоринского «Славянское племя» (Киев, 1907).
Источник: http://fondiv.ru



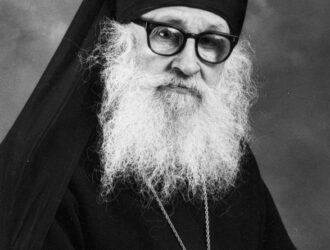
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.