 [Предлагаем Вашему вниманию главу из книги Г.Мейера «У истоков революции» вышедшей в издательстве «Посев»]
[Предлагаем Вашему вниманию главу из книги Г.Мейера «У истоков революции» вышедшей в издательстве «Посев»]
Георгий Мейер
Российская Империя и славянофильство
(«ОТРЫВОК»)
…Боюсь, что репутация антисемита, нелепо и совершенно несправедливо мне навязанная, сильно вредит мне в левых кругах по прежнему. Все мы мало внимательны друг к другу, а большинство людей привыкло, вдобавок, невнимательно относиться к печатному слову. Вот прошло уже более двадцати лет, как я громогласно, с присущей мне мало похвальной резкостью, проповедываю печатно имперскую идею, несовместимую с какими бы то ни было племенными пристрастиями, расовыми началами, но в ответ на это, ничего кроме бессмысленных обвинений меня в «хитлерианстве», я еще не слышал. Левые никогда не могли мне простить, что я хотел, прежде чем мечтать о гибели иностранца Хитлера, видеть погибель от его руки нашего доморощенного Сталина, перемудрившего во всех отношениях своего немецкого собрата. С правыми у меня дела обстояли ничуть не лучше. Как это ни странно звучит, они неизменно подозревали меня в юдофильстве, не понимая того, что всякие «фильства» и «фобства» мне одинаково чужды и противны. Однако, говоря по правде, из всех «фильств» я отношусь враждебнее всего к славянофильству. Это именно оно, соблазнив нашу правящую верхушку, снизило имперскую идею и погубило Россию. А из всех «фобств» самое для меня отвратительное — юдофобство, ибо оно скорее и сильнее всего завладевает улицей, народными инстинктами, мне глубоко ненавистными. О слове «народ» я давно собираюсь написать статью. Прошло уже более ста лет, как все привыкли у нас придавать этому, некогда чисто биологическому понятию, одновременно три совершенно различных смысла. Под «народом» мы одинаково разумеем ныне: — простонародье, население данной страны, взятое в целом, и, наконец, нацию — три понятия друг друга исключающие. «Народ» происходит от «нарождаться», а нарождаются не только люди, но и птицы, и звери, и рыбы, и черви. В прежние более счастливые и культурные времена под словом «народ» разумелось все то, что есть в людях, в человеках биологического или даже, если угодно, зоологического. А слову «нация» во дни Пушкина, Баратынского и Чаадаева придавалось значение беспримесно духовное, противоположное всему тому, что выражает слово «народ».
Нацию основывают вопреки, и в противовес народу — герой, гений и святой при содействии сравнительно не многих избранных людей. Из кого состоят эти избранные?
Отвечу кратко: крестьянин безвестной деревушки, честно платящий государству налоги, сознательно и честно отбывающий воинскую службу и внушающий своим детям страх Божий, есть тем самым представитель не народа, а нации. Такой крестьянин, такой мужик приобщается к деяниям героя, гения и святого и становится живой неотъемлемой частицей нации. Но таких крестьян, равно как таких дворян, купцов и священнослужителей, в любой стране живет не много. Они-то и составляют собою нацию — явление исключительно духовное, наднародное, в каком-то смысле противонародное, отвергающее коллектив и утверждающее начало соборное в церковно-православном значении этого слова.
Народ — коллектив, нация — собор. Народ неизменно порывается побить камнями героя, гения и святого, а нация защищает их от напора народного буйства, охраняя таким образом свою основу, собственную сердцевину.
В конце 18-го и в начале 19-го века, в краткую пору великолепного российского ренессанса, непреодолимая разница между понятиями «народ» и «нация» чувствовалась у нас лучшими людьми с особенной остротой и силой. Можно сказать даже, что эта разница ощущалась тогда в России всеми, но ясно сознавалась она, конечно, немногими, слишком немногими и слишком недолговременно. Потому, между прочим, не успели мы создать русского слова, вполне соответствующего по своему значению и смыслу иностранному — «нация».
Однако Пушкин нередко умел поставить слово «народ» на подобающее ему место. У Пушкина народ и чернь в большинстве случаев между собою не различаются.
Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел, а хладный и надменной
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.
И толковала чернь тупая…
Ясно, что Пушкин говорит здесь совсем не о простонародье, а о народе или черни вне сословных и классовых различий, противопоставляя чернь-народ духовным сферам нации, ядро которой троично, ибо его составляют — герой, гений и святой. Или же, говоря иначе, но все о том же, сердцевину нации составляют — вера, надежда и любовь. Герой бесстрашен потому что вполне обладает даром веры и, следовательно, духовным чувством собственного бессмертия; гений творит потому что его никогда не покидает надежда; святой совершает свой подвиг потому что любит. Итак, вера рождает геройство, из надежды возникает творчество, из любви восстает святость. «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
Любая нация неповторима, единственна, ибо каждой нации присуще особое, единственное, неповторимое в своей благодатности сочетание веры, надежды, и любви. Вот почему Россия и русский народ не только понятия не совпадающие, но напротив того — понятия взаимно друг друга исключающие. Россия это идея-задача заданная и данная Богом русскому народу для воплощения и разрешения. Но плоть не хочет духа, русский народ не принимает России, он отвергает ее, она же ищет своего воплощения, опираясь на избранных и создавая, таким образом, человеческий отбор. Этот отбор и есть нация, российская нация, в данном случае.
Все, что я сказал сейчас о взаимоотношении России и русского народа, можно повторить о Франции и французском народе, о Испании и испанском народе и т. д. Только самое сочетание духовных сущностей у каждой нации всегда будет своим, единственным и неповторимым, но животная биологическая основа у всех без исключения народов одинаковая. Впрочем, необходимо сделать, и не к нашей выгоде, одну оговорку: в западноевропейских странах понятие нации в гораздо большей мере покрывало понятие народа чем у нас в России. Всякая нация духовно динамична, она стремится воздействовать на косную народную толщу, она вступает с ней в борьбу, в битву. Непрестанно наступая, нация урывает у народа и присваивает себе всех способных принять духовное крещение, всех могущих воспринять ее властное вмешательство. Чем больше индивидуумов похищает нация у народной гущи, одухотворяя их в процессе похищения, превращая каждого из них из индивида в человеческую личность, тем крепче в данной стране национальный слой, тем послушнее усмиренная, взнузданная народная толща. Но, что бы наверное быть понятым, я повторяю еще раз: под народом и народной толщей следует разуметь совсем не простонародье, не крестьян и пригородных мещан, а огромное в каждой стране, особенно в России, скопление людских биологических индивидов, часто внешне цивилизованных, однако к истинной, религиозно-эстетически понимаемой культуре неспособных и ей враждебных. Вот именно эта народная толща оказалась у нас в России никем и ничем не прошибаемой до глубины. Отсюда чрезмерная тонкость и хрупкость российского культурного слоя, российской имперской нации, отсюда ее неустойчивость, всегда ощущавшаяся большинством наших лучших людей. Но от чувствования до сознания и понимания и, особенно до постижения причин и первопричин еще очень и очень далеко. Я полагаю, что во второй половине 19-го века только один Константин Леонтьев вполне понимал и постигал настоящие причины нашей духовной национальной неуравновешенности. Он хорошо понимал слова Чаадаева о том, что всего лишь вчера, в отличие от старых западноевропейских стран, мы находились в кочевой кибитке и что именно поэтому великая имперская идея, созидавшая Россию, может в один ненастный день пошатнуться под напором безбожных диких племенных инстинктов, никогда не переставших нами владеть. Коротенькие племенные чувствования и идейки всегда поджидали нас за углом. Когда же появилось славянофильское учение с его проповедью племенной великорусской избранности, то пути, ведущие Россию к погибели, определились сами собой, ибо от племенных притязаний на первенство до погромов, и не только еврейских, рукою подать. Славянофильство опиралось у нас на бытовое исповедничество, но где быт, там начинается застой бытия, там снижается и ущемляется все истинно духовное. Бытовое исповедничество враждебно всякой подлинной религии и в особенности самой идее вселенского православия, неизменно пребывающей вне быта, открыто обосновавшей свое вечное царствование высоко над всеми племенами и расами. Вселенское православие чуждается всего бытового, всего домашнего, подтверждая всей своею божественной сущностью евангельские слова «враги человеку домашние его».
Имперская идея осуществлялась всего лишь дважды на земле: в Римской Империи, когда идея права, положенная в основу государственности, имела свои корни в религии, выводилась из Божества, и в Российской Империи, исходившей из идеи вселенского православия и, следовательно, из веры в небесную благодать. Как Дух дышит, где хочет, так и российская имперская идея, подвизаясь в подражание Духу, стремилась дышать во всех племенах и народностях, поскольку они отрешались от чисто племенных биологических признаков и, одухотворяясь под ее воздействием, приобщались к нации в лице своих лучших представителей.
Во второй половине 19-го столетия, повторяю, только один К. Леонтьев постигал у нас до глубины сущность имперской идеи, создавшей Россию. В те годы эта великая идея окончательно погасла даже в самых избранных умах. Она стала недоступной даже несравненному по остроте и мощи уму Достоевского. На глазах у всех умирала Россия, но причину этого, тогда лишь начинавшегося умирания, видел и понимал один К. Леонтьев. Он видел, как померкала российская нация, отступая под натиском народа, племенных туземных инстинктов, домашних вожделений. Он видел как отцы и матери, когда-то внушавшие своим детям любовь к национальному духовному величию, превращаются в захолустных папашей и мамашей, а их детки, их сынки в усть-сысольских обывателей, в оголтелых шовинистов, или же того лучше, в революционных бомбометателей, стрелков по городовым. Чтобы наглядно показать степень тогдашнего непонимания всеми того, что такое нация вообще и российская нация в частности, достаточно привести все еще весьма ходкое у нас утверждение, пущенное впервые славянофилами и ставшее обиходным уже в шестидесятые годы прошлого века. «У нас в России, — говорили все с осуждением, — слой образованных людей оторвался от народа». Причем под образованными людьми разумели, главным образом аристократов и дворян. Да, говорили так именно с осуждением, как будто бы в этой «оторванности» было что-то ненормальное, болезненное. На самом же деле никто и ни от кого в России не отрывался, а шел и развивался в ней вполне здоровый процесс расслоения, дифференциации российского общества. Этот благодатный процесс показывал, что мы приближаемся, говоря словами К. Леонтьева, к высшей стадии многосложного государственного цветения, когда каждый орган в духовном организме России, достигая своей зрелости, начинает исполнять, лишь ему одному, тайной, высшей силой предназначенные обязанности. И удивительно не то, что тогда Россия нормально выростала и зрела, а парадоксальна и непонятна та быстрота с какою тогда же завелась в российской нации червоточина славянофильства, зазвучала нелепая проповедь нашей самобытности в кавычках. Как будто бы истинная самобытность любой нации может возникнуть по щучьему велению из так называемых народных недр, в отъединенности и вне духовного воздействия других старших и следовательно более развитых наций. Как будто в народных гущах может само собою зародиться, что-либо иное, кроме душевно телесных потребностей у всех народов и у всех отдельных людей одинаковых. Всего же убийственнее для наших, по выражению Достоевского, русских мальчиков, это как раз отсутствие в их славянофильском учении оригинальности, самостоятельности и самобытности. Это учение было ввезено в Россию из неметчины печальной памяти наследниками пушкинского Ленского. Однако Ленский привез с собою из-за границы не столь учености плоды, сколь довольно расплывчатые романтические грезы, все же слегка смягчившие грубоватые и рудиментарные российские нравы, а его ближайшие наследники, наравне с новейшими выводами немецкой философии, недаром ненавистной аполлонистическому уму Пушкина, занесли к нам «из «Германии туманной» вреднейшую разновидность племенных теорий, неизменно смертоносных, при применении их на практике, для любого государства. Мы все еще так недавно видели на примере все той же Германии, насколько становятся губительными племенные народнические идейки, навязанные жизни живой.
Российская Империя, поскольку она не изменяла идее ее породившей была живым отрицанием всех племенных притязаний на первенство от какого бы племени они не исходили. Император Николай Первый боролся как только мог, с распространявшимися славянофильскими чувствованиями, со все растущими великорусскими претензиями. Он неоднократно, иногда в очень резких выражениях, пытался объяснить славянофилам, что, перед лицом российских имперских законов, обычаи и верования любого края, любой народности, входящих в состав Империи, ничуть и ничем не ниже московских. Правительство Николая Первого зорко следило за развитием славянофильской пропаганды и пресекало эту заразу в достаточной степени решительно. Оно боролось с противоимперской деятельностью наших народников левых и правых толков и ревниво охраняло идею вселенского православия от ультра православной проповеди славянофилов, демонстративно и безвкусно щеголявших своей преданностью обрядоцерковному бытовому исповедничеству. Эта бесстыдная смесь сусальщины и шовинизма с церковной обрядностью, духовно сниженной и тем приниженной, претендовала на всемирность и была тайно преисполнена далеко не имперскими, а империалистическими вожделениями. Да, славянофильское учение, враждебное имперской идее, создавшей Россию, несло в себе то, что принято теперь так часто невпопад называть империализмом.
1971г.
Источник: Стрела НТС №193 от 31.08.2014г.
— Читайте материалы НТС на http://nts-rs.ru/



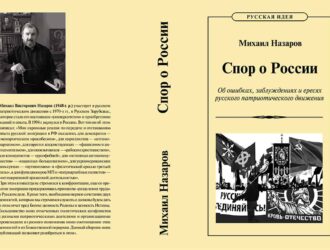
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.